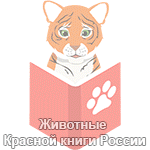Чудная птица
Серия книг «Друг животных», 1909 г.
Если вы не знаете удода, то посмотрите на него на картинке. Не правда ли, пресмешная, престранная птица? Совсем как какой-нибудь предводитель индейского племени!
Тело длинное, ноги короткие, крылья большие закругленные, хвост как будто подстрижен, клюв длинный-предлинный, тонкий, изогнутый, а хохол-то, хохол, – ни у одной из наших птиц нет больше такого!
А как пестро он раскрашен! Верхняя часть туловища, грудь, шея, голова, и хохол у него красивого красноватого цвета; каждое перо на хохолке с черным кончиком; на спине, на плечах и на крыльях широкие поперечные белые и черные полосы, брюшко яркого глинистого цвета, с черными пятнами на боках, а хвост белый, с черной перевязью.
На удода даже и тогда чудно посмотреть, когда и хохол у него опущен, или, вернее сказать, сложен (наподобие веера): в одну сторону длинный-предлинный клюв торчит, а в другую – узкий хохолок; ну, а как распустит он его, так, право, чуднее и птицы не придумаешь, впрочем обыкновенно удод не распускает своего хохла, а держит его сложенным, кончиком назад, и только двигает им взад и вперед, когда сердится, а развертывает он его тогда, когда сидит, отдыхает на дереве, или же когда он кричит.
По земле удод ходит, ловко шагая, но никогда не прыгая, летит быстро, но толчками, потому что попеременно машет крыльями, то быстро, то тихо, а когда он собирается опуститься на землю, то несколько мгновений парит в воздухе, при чем распускает свой хохол.
Если вы живете на севере, то вы вряд ли слышали много про удода: удода хорошо знают только жители южной половины России, там во многих местах, особенно же на крайнем юге – он самая обыкновенная птица. В средней России он встречается, но не часто, в северной же вы его и вовсе не увидите.
Весною, по возвращении из далеких теплых краев, куда он улетает на зиму, удод тотчас же дает знать о себе своим странным криком: «уп-уп-уп», или «уд-уд-уд», отчего, по всей вероятности, его и прозвали удодом. Этот своеобразный глухой и в то же время далеко слышный крик в течение целого дня беспрестанно раздается в весеннее время, особенно же по утренним и вечерним зорям в тех местах, где водятся удоды; во второй половине июня он слышится уже реже, а к июлю и вовсе смолкает.
Луга и выгоны, на которых пасется скот, с немногими отдельно стоящими ветлами и другими деревьями, в дуплах которых удоды любят устраивать свои гнезда, – вот места, где удода можно встретить всего скорее. Кругом бродит скот, а удод тут же преважно расхаживает по земле между коров и овец, так и смотрит, как бы не отстать от стада, недаром и прозвали его еще лесным пастушком. Стадо кормит его: где стадо, там и навоз, а в навозе копошатся навозные жуки, лесные мухи, кишат разные личинки, а все это для удода самый любимый корм... впрочем, добывает он свой корм не из одного только навоза: личинки жуков живут еще и в гнилых деревьях, длинный клюв удода добывает их и оттуда, ест он и кузнечиков, муравьиных личинок и куколок. Схватит удод жука и ударит его об землю раз, другой, пока не обломает ему жесткие надкрылья и брюшные щитки, но съесть его сразу удод однако ж не может: клюв у него слишком длинный, а язык короткий и толстый, вот он и должен сначала подбросить пищу кверху, а потом и ловить ее открытым ртом. Молодым удодам родители проталкивают пищу своими клювами в горло, а то птенцы умерли бы с голоду. Подбрасывать и ловить пищу птенцы обучатся не сразу, а только тогда, когда уже подрастут.
Многому учит удода время, только храбрости не научит. Удоды такие трусы, что других таких поискать. Правда, пастухов и домашнего скота удод не боится, к ним он привык и знает, что те не сделают ему никакого худа, на собак он уже косится, вороны опасается, а коршуна или ястреба завидит, не знает куда и деваться от страха, в ужасе прижимается он к земле, распластав крылья и хвост и, подняв свой длинный нос кверху, лежит так, не шевелясь, пока не минет опасность. В таком странном положении удод похож скорее на какой-нибудь пестрый лоскуток, чем на птицу, и это нередко спасает его от когтей хищника. Даже ласточек пугается удод, и вздрагивает, когда они пролетают мимо него своим быстрым полетом.
Только друг дружки не боятся удоды и часто селятся даже одна семья близ другой, но не дружно живут эти семьи между собою, постоянно ссорятся, дерутся, гоняются друг за дружкой то туда, то сюда. Только птицы одного гнезда дружны между собою.
Гнездо свое удод устраивает чаще всего в дупле дерева, в отверстиях и щелках каменных стен и заборов. Выберут самец и самка удоды дыру в стене или дупло в дереве, принесут в него несколько сухих стебельков и навозу натаскают, да так и кладут яйца прямо в навоз. Недаром удода зовут «вонючей птицей». К тому же самка, пока она сидит на яйцах, своего помета из гнезда не выбрасывает, да еще детский накапливается; на запах летят мухи, кладут в навоз в гнезде яйца, из яиц выползают личинки, и гнездо, что навозная куча, кишит всякой всячиной. Зато и родители удоды и птенцы их зачастую издают такой запах, что к гнезду их трудно и подойти. Только много недель спустя, после вылета из гнезда, птицы теряют свой запах, с ним же теряют они и свою единственную защиту от человека: бьют их охотники, так как мясо удода употребляется в пищу и считается очень вкусным.
«Мы жили в полукилометре от города Керчи (на Крымском полуострове), – рассказывает одна наблюдательница. – Вокруг была голая степь, пересеченная грядами скалистых холмов. Керченский полуостров печален, безлесен и безводен. Степь уже в конце мая желтеет и выгорает от горячих ветров и от солнца, и в июня мельчайшая пыль поднимается из-под ног.
Но есть на нем далеко друг от друга несколько садов, и там-то собираются птицы в несметном количестве. В одном из таких садов стоял и наш маленький белый домик.
В апреле прилетели к нам удоды и начали чинно расхаживать взад и вперед по молоденькой травке, как люди, обсуждающие важное дело; они кивали хорошенькими головками и почти тыкались в землю длинными, как шило, клювами и от волнения то поднимали на голове золотистую коронку с черной оторочкой, то складывали и опускали ее на затылок.
Но недолго продолжались мирные беседы прекрасных гостей; дня через два начались ссоры и драки; двое дерутся, а третий, точно каменный, сидит и не спускает с них глаз; они то разойдутся, то сойдутся, взъерошат хохолки, вытянут головы, скрестят клювы и бьют друг друга, словно саблями. Наконец, взлетели, кувырнулись в воздухе, и один полетел прочь, другой бросился за ним, но тотчас вернулся и опустился на землю. С распущенной коронкой он пошел к неподвижному удоду, а тот вдруг оживился, тоже распустил хохолок и стал кивать головой.
«Это он, должно быть, отбил у другого невесту», – подумала я.
На другое утро только что сели мы за чайным столом под душистыми акациями, как услышали откуда-то неторопливый голос:
– О-пу-пу! О-пу-пу!
– Кажется, иволги перекликаются, – говорит моя хозяйка.
– Нет, – говорю, – их голос звонче и протяжнее; а это точно овчарка лает тонким голосом, а другая ей будто издали отвечает.
Я пошла на голос и на вершине цветущей белой акации увидела удода с распущенным хохолком. Он кричал: «О-пу-пу! пу-пу!» и при каждом звуке кивал головой; но и близкий и далекий голос подавал один и тот же удод, – он развлекал свою подругу, которая неподвижно сидела на соседнем дереве и смотрела на него черным глазком.
Я стала следить, где они будут строить гнезда, но, как ни старалась, ничего не нашла. Удоды ходили и пролетали с деловым видом под деревьями, но ни разу не пронесли ни шерстинки, ни соломинки в клюве.
Очевидно, они не строили гнезда.
Прошло немало времени, и вот один мальчик неожиданно оказал мне большую услугу. Он бродил по всему саду и вдруг услышал из-под груды ноздреватых белых камней какое-то шипение и писк. Он сперва подумал, что это змея, и испугался, однако заглянул под камни, – там копошились маленькие полуголые удодики.
При первой встрече со мной он сообщил мне интересную новость. Я упросила детей и прислугу не ходить к гнезду и не заглядывать в него; я уверила их, что удоды покинут птенцов, если их будут беспокоить; потом я сама решила пойти на поиски.
Я вернулась домой, надела темно-зеленую юбку, серую кофточку под цвет камней, на голову широкополую шляпу, повесила через плечо бинокль и пошла. Гнездо было саженях в двадцати от дома. Справа была густая, запущенная школа молоденьких абрикосов, проросшая акациями и высокой травой, за ними – луг и степь, а кучка камней находилась посреди невысоких жиденьких абрикосов; деревья были посажены редко, и спрятаться было негде.
Я подняла бинокль, – удод сидит на камнях; подошла к тому месту, где кончались частые деревья, легла и потихоньку, без шума, с биноклем в руке, на локтях поползла по траве. По временам я останавливалась и смотрела в бинокль: удод скрылся между камнями, и только длинный клюв, острый хохолок да черный глазок поворачивался то туда, то сюда, точно флюгер. Саженях в шести от гнезда я легла.
Удод сидел на камнях, потом соскользнул вниз и стал между двумя большими камнями у входа в гнездо. Он поворачивал головку во все стороны, чистил себе перышки клювом на хвосте, на животе и на спинке, лапками чесал затылок и горлышко, от скуки потягивался, как курица, и расправлял широкие полосатые крылышки, оборачивал голову совсем назад, так что издали нельзя было разобрать, где клюв и где острый хохолок.
Вдруг птичка вытянула шею, распустила золотистую коронку, выбежала и взобралась на камни.
На соседней куче камней появился другой такой же удод. Он держал в самом кончике длинного клюва живую извивающуюся гусеницу, оглядывался по сторонам и о чем-то думал. Его подружка суетилась у гнезда; она тукала носиком по камням и показывала, куда положить червячка.
Удод сердито кивал головкой и не соглашался; потом вдруг подлетел к гнезду.
Навстречу ему птичка так широко открыла клюв, что я увидела в бинокль ее ярко-красное горлышко.
Но все же ей ничего не досталось: удод облетел ее, обежал вокруг кучи камней и сунул добычу птенцам в небольшое окошечко.
Потом оба встретились, подрались и вместе улетели.
Прошла минута, – птички не возвращались. Дай, думаю, воспользуюсь ее отсутствием и побегу посмотреть, что в гнезде.
Огляделась еще раз, – кругом никого. Я бегом к гнезду, прилегла на землю, а навстречу мне: «чирр-чирр!» – зашипели птенчики, – сами до смерти испугались и меня хотели пугнуть не на шутку. Я заглянула под камни. Там было довольно чисто, но никакого устройства, никакой подстилки. Серенькие птенчики копошились и жались в глубине.
Я с трудом просунула руку, схватила одного птенчика и осторожно вытащила на свет.
Рука у меня дрожала, как у вора; я боялась возвращения хозяев и страшно торопилась. Но все-таки я успела разглядеть птенчика, сунуть опять в гнездо и убежать. Он заторопился и пополз на слабых, подогнутых ножках в глубину.
Птенчик был полуголый; черно-белые перышки были наполовину спрятаны в прозрачных футлярчиках; хвостик топорщился кверху; на лысой головке поднялся двойной ряд перышек; ножки с острыми коготками цеплялись за мои пальцы и пятились в мои кулак; острый тонкий клювик был почти в полпальца длиною, а сам птенчик в три раза меньше взрослого удода. Я понюхала свою ладонь, – от нее прескверно пахло удодом.
Разглядев все это наскоро, я бросилась бегом на место. Никто ничего не видел.
Только что я устроилась, прилетела удодка и села около меня на соседнее дерево, склонила голову и принялась меня разглядывать. Минуты две мы смотрели друг на друга.
Удодка увидела, что я ничего дурного не делаю, и перелетела в гнездо.
Должно быть, она все нашла там в порядке, потому что скоро вышла из-под камней и опять занялась туалетом.
«Если чистится, значит, спокойна, – подумала я: – или она не заметила, что я там была, или не придала этому большого значения».
Прилетел удод опять с гусеницей, – та же история: она просит, он кивает, бежит от нее, сует птенцам в окошко; она обижается, ссора; он ударами клюва загоняет ее под камни, поворачивается... перед ним третий удод; они дерутся, и оба улетают в драке; полосатые крылья красиво пестреют и кувыркаются в воздухе.
Не успели они скрыться за деревьями, как опять появляется удод с добычей и сует ее птенцам.
Удодка обежала с другой стороны и выхватила добычу из самого горла птенца. Птенцы зашипели наперерыв; удод схватил ее клювом, точно щипцами, за горло, а она покорно встала на свое место у входа в гнездо.
«Не может быть, чтобы это была мать, – подумала я: – всегда птицы вдвоем дружно кормят своих детей, а тут вдруг подрались из-за корма! И зачем она тут сидит и ничего не делает?..»
И нигде этого не видано и не слыхано, чтобы мать у родных детей кусок изо рта вырывала; а ведь птица, – пожалуй, самая нежная мать! Нет, тут что-нибудь да не то...
После завтрака я вернулась на свое место. Удодка сидела у камней и чистилась. Вдруг она засуетилась, распустила хохолок и начала кивать, – верный признак, что прилетел удод. Но каково было мое удивление, когда вместо одного удода я увидала двух, и оба были с гусеницами в клювах!
Один обошел вокруг и уже совал пищу детенышам в окошко; вслед за ним то же самое сделал другой, мимоходом ударом клюва загнал удодку в гнездо и улетел.
«Так и есть! – воскликнула я про себя. – Значит, их трое!.. Но как они друг другу приходятся? Кто отец, кто мать и кто из них чужой? Кто же это постоянно сидит у гнезда? Нет ли между ними какого-нибудь наружного отличия?»
Я принялась разглядывать еще внимательнее: считала черные и белые полоски на хвосте и на крыльях, разглядывала хохолок, но не могла найти ни малейшей разницы: величина, манеры, ржавый цвет груди, коронка – все было совершенно одинаково.
Все эти неожиданные вопросы так заинтересовали меня, что я шесть дней подряд отлучалась только для того, чтобы поесть, приходила с восходом солнца и уходила в сумерки, когда птицы переставали носить корм, и только одна удодка оставалась с птенцами в гнезде. Потом еще в течение десяти дней я пролеживала перед гнездом по нескольку часов.
Мне захотелось как можно ближе подобраться к удодам и вместе с тем как-нибудь защититься от солнца.
Жара стояла невыносимая. Даже удодка сидела у гнезда с разинутым клювом. Около полудня деревья почти не отбрасывали тени; приходилось, что называется, жариться в собственном соку.
Тогда я начала строить шалаш из зеленых веток. Но, чтобы не перепугать птиц, я каждый раз приносила с собою по две-три ветки, перочинным ножом просверливала в затвердевшей земле дырочки и накрест втыкала в них заостренные ветки. Понемногу надо мной вырастала зеленая галерея; я подвигала ее все ближе и ближе к гнезду; зелень скрывала меня и от птиц и от палящих лучей солнца.
Наблюдать было удобно. И вот что я узнала.
Удоды воспитывают своих четверых птенцов втроем. Один удод постоянно сидит у гнезда и смотрит за детьми, – как бы занимает около них место няньки, а двое беспрестанно летают за кормом.
Полет у них не быстрый, поэтому они ловят добычу не на лету, а на земле и даже вытаскивают ее из земли: недаром у них длинный и острый клюв и такая подвижная шея; они ни разу не принесли ни бабочки, ни мухи, а только ползающих – мягких гусениц, червей, и только два раза больших черных жуков.
За добычей они улетают далеко, куда-то за сад. Они кормят детей сами, при этом суют червяка в самую глубину горлышка и никогда не доверяют корм няньке.
Один раз я видела, как любопытные птенчики высунули длинноносые головки в окошко. Мне показалось даже, что один завяз, повесил голову и задыхается. Я чуть не побежала к нему на помощь, но нянька поспела раньше: она пошла, не торопясь, одного клюнула в голову, другому щипнула затылок, и оба спрятались в гнездо.
Когда птенчики подросли, они стали расхаживать по гнезду, под защитою камней и часто высовываться из гнезда наружу. Тогда нянька била их и прогоняла в гнездо: без нее, в отсутствие родителей, птенцы, может быть, разбежались бы раньше времени или высовывались бы слишком часто, и были бы съедены кошкой, вороной или ястребом. Они, действительно, были точно школьники, и оставить их без присмотра нельзя было. Притом они были настолько велики, что одна птица не могла их выкормить, – надо было улетать за кормом обеим. Понадобилась нянька.
За это ее кормили: удод изредка подлетал прямо к ней и совал ей червячка в рот.
Тогда маленькие завистливо пищали и стрекотали, широко открывали кроваво-красные жадные рты. Но удод уже улетал, а нянька ударом клюва загоняла их глубже в гнездо.
Когда птицы подросли, нянька чаще оставляла их одних: то гуляла вокруг камней, то сидела на соседних деревьях. Иногда это ей как видно надоедало, и она улетала на несколько минут, но никогда ничего не приносила и не кормила детей. Ее обязанность по-видимому состояла только в том, чтобы сидеть и смотреть за детьми.
За прогулки и за суетливость хозяева ее били и гоняли на место. Особенно строго ее держали вначале, когда птенцы были еще малы; тогда ей велели сидеть у самого входа в гнездо. В это время она только и делала, что чистилась и охорашивалась; ей по-видимому страшно надоедали какие-то мухи: они бегали по ее перьям, заползали под перья и ловко избегали ее длинного клюва и острых коготков.
Вот что случилось под конец. Я и раньше замечала, что иногда прилетает четвертый и даже пятый удод. По большей части тут между ними происходила драка. Но однажды под вечер один за другим налетело штук семь или десять удодов, все без корма; они дрались попарно друг с другом около камней и над самым гнездом. Каждый старался заглянуть в окошко, вытягивал шею, совал свой длинный нос; другой его отгонял и с таким же любопытством заглядывал сам. Все суетились, ссорились; наконец, остались только две птички друг против друга, – одна на камнях, другая внизу перед окошком. Она сидела неподвижно, точно сконфуженная, отвернув голову; другая долго смотрела на нее. Наконец, последняя улетела; неподвижная удодка очнулась, сунула нос в окошко и тоже улетела.
Что это было? Праздник, званый вечер или совещание друзей и родственников? И кто из них хозяева, кто гости? Привело ли их простое любопытство или они о чем-нибудь совещались?
Не знаю. Но на другой день утром я не застала на камнях дежурной удодки.
Я пролежала полчаса, – никто не являлся. Заглянула в гнездо, – оно было пусто. Около гнезда валялось несколько бело-черных перьев, – следы вчерашней драки.
Я взяла их на память.
В полдень я видела моих молодых удодов на крайней аллейке около степи. Я узнала их по маленькой желтизне около клюва. Они летали хорошо и больше в гнездо не вернулись...»