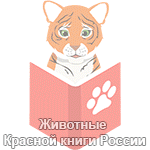Джонни медвежонок
Автор: Сэтон Томпсон
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава I
Джонни был уморительным медвежонком, жившим вместе со своей матерью в Иоллостонском парке. Парк этот находится в Северной Америке и представляет собой огромный участок земли с лесистыми горами, озерами, реками и долинами, где совершенно запрещена всякая охота.
Самые разнообразные породы животных пользуются там полной свободой, и человек почти не вмешивается в их жизнь.
Такие места, как Иоллостонский парк, есть и в других частях света; у нас в СССР они называются заповедниками.
Джонни-медвежонок с матерью были из числа тех полуручных медведей Иоллостонского парка, которые живут поблизости от Фонтан-отеля, большой гостиницы для посетителей заповедника.
Управляющий гостиницей распорядился, чтобы все кухонные отбросы сваливались на открытой прогалине в соседнем лесу. Таким образом в течение всей зимы медведи прикармливались и постепенно приручались.
С тех пор как Иоллостонский парк превратился в надежное убежище для диких зверей, где им не могло быть нанесено никакого вреда, количество медведей в парке стало увеличиваться с каждым годом. Мало-помалу они поверили дружелюбному отношению к ним людей, не уходили, почуяв человека, и даже стали приближаться к гостинице.
Многих из них обитатели Фонтан-отеля знали настолько хорошо, что дали им клички, соответствующие их внешности или привычкам. Тощего длинноногого медведя, походившего на одного слугу гостиницы – Якова, так и прозвали «Яковом». Черного медведя, шерсть которого казалась словно опаленной огнем, назвали «Огарком», а другого, ленивого и жирного медведя, который вечно лежал и что-нибудь пожевывал, величали «Толстяком». Два взъерошенных подростка-медвежонка, которые всегда ходили вместе, носили кличку «Близнецов», но самой большей известностью среди обитателей гостиницы пользовались «Ворчунья» и маленький «Джонни».
Ворчунья была самой крупной и свирепой медведицей Иоллостонского парка, а Джонни – по-видимому, ее единственный сын – ужасно несносным медвежонком, который все время ворчал и визжал. Вероятно, это означало то, что он был нездоров. Да и в самом деле, не будет же здоровый медвежонок, точно также, как и здоровенький ребенок, постоянно ворчать без всякой причины.
Действительно, Джонни выглядел болезненно, и был самым слабеньким медвежонком во всем парке. Весь его вид говорил о плохом пищеварении: особенно понятно стало это мне после того, как я однажды увидел ужасающую смесь, которую он пожирал, сидя на куче кухонных отбросов. А ел он решительно все, что только ему попадалось на глаза.
Джонни выглядел довольно жалко еще и по той причине, что у него было только три здоровых лапы, четвертую он приволакивал за собой; шерсть его сильно вытерлась, а уши и живот казались непомерно большими. Но, несмотря на все это, медвежонок был далеко не глуп, всегда знал, чего хотел, и всегда добивался своего, надоедая матери на все лады.
Глава II
Я познакомился с Ворчуньей и ее сыном летом 1897 года. Дело было вот как: приехав в Иоллостонский парк для изучения жизни животных, я узнал, что в лесах, окружающих гостиницу, можно в любое время видеть медведей. Действительно, выйдя через пять минут после приезда из задней двери гостиницы, я лицом к лицу столкнулся с большой черной медведицей и ее двумя медвежатами.
Не ожидая встретить их так близко от жилья, и удивленный внезапной встречей, я остановился.
Медведи тоже остановились и, присев на задние лапы, стали меня разглядывать. Затем медведица издала странный короткий звук, что-то вроде: «Кофф-кофф!» и посмотрела на ближайшую сосну. Медвежата, по-видимому, отлично поняли ее, потому что бросились бежать к дереву и взобрались на него, как две обезьянки. Сидя на порядочной высоте, они казались мне маленькими мальчиками, обхватившими дерево руками и болтавшими черными ножонками.
Медведица, поднявшись на задние лапы, медленно пошла на меня, и мне от этого стало очень не по себе: она была почти двух метров вышины, а у меня не было даже палки для самозащиты, и когда она издала глухое ворчанье, я решительно собрался искать спасения в дверях гостиницы, хотя меня и предупреждали о том, что в парке медведи никогда не нападают на человека первыми.
Впрочем, сделав несколько шагов, медведица остановилась, как бы на минуту задумалась, потом подняла глаза вверх, на своих детенышей и издала особый визгливый звук: «Эррр-эррр-эррр», по которому они, как послушные дети, шариками скатились с дерева.
В них не было ничего неуклюжего, или «медвежьего», в общепринятом смысле этого слова; они с большой ловкостью перепрыгивали с ветки на ветку, пока не опустились на землю и вместе с матерью не скрылись в лесу.
Мне очень понравилось такое послушание медвежат: они беспрекословно повиновались матери; но я тут же сообразил, что для этого существовала основательная причина: ведь не исполни они того, что им было приказано, им пришлось бы получить здоровую трепку...
Я был страшно доволен тем, что мне случилось так удачно заглянуть в семейную жизнь медведей. Право, стоило приехать, даже если бы знакомство ограничилось только этим. Но мои соседи по гостинице сообщили мне, что самое лучшее место для наблюдения над медведями, это – свалка отбросов, находившаяся километра на два дальше, в лесу. Там можно увидеть их сколько угодно.
Рано утром на следующий день отправился я в медвежью столовую, под сосны, и спрятался за ближайший куст.
Вскоре большой черный медведь тихо вышел из лесу, приблизился к мусорной куче и стал в ней рыться. Он, видимо, трусил, садился при малейшем шорохе, озирался и отбегал на несколько сажен при всяком, даже самом легком шуме. Вдруг он навострил уши, присел, прислушался и торопливо ускакал в сосновый лес. Скоро из-за деревьев на просеку вышел другой черный медведь.
Этот держался так же робко, как и первый, и бросился бежать со всех ног, когда я чуть раздвинул кусты, чтобы рассмотреть его получше.
Сначала я и сам чувствовал себя не совсем спокойно, так как в парке запрещено носить оружие; но трусливость животных меня успокоила, и вскоре я забыл обо всем, заинтересовавшись жизнью и повадками огромных косматых зверей.
Однако очень скоро я убедился в том, что увидеть медведей близко, как мне этого хотелось, из кустов, находившихся метрах в шестидесяти от свалки, мне не удастся. А ближе кустов не было. Оставался единственный способ, которым я и воспользовался, а именно: я отправился к самой свалке, вырыл там настолько глубокую яму, что в ней можно было спрятаться взрослому человеку, и пробыл весь день среди капустных кочерыжек, картофельной кожуры, банок из-под томатов и всякой тому подобной дряни, возвышавшейся вокруг меня скверно пахнущими грудами.
Местопребывание мое не отличалось привлекательностью, хотя мухи, по-видимому, были о нем иного мнения.
Неудобное, согнутое положение, в котором я находился, отвратительный запах, издаваемый гниющими отбросами, тучи мух, носящихся над кучей, – все это было тяжким испытанием, но зато я могу смело сказать, что в тот день вдоволь налюбовался на медведей.
Если бы каждого подходившего к куче считать за нового пришельца, можно было бы сказать, что их было больше сорока; но несомненно, что медведи уходили и приходили снова. И все-таки, я уверен, что их было, по крайней мере, тринадцать, потому что я видел по стольку медведей за раз.
Целый день я не выпускал из рук альбома и записной книжки: каждый медведь был занесен в список и зарисован. Таким путем мне удалось сделать очень точные наблюдения над их привычками и личными особенностями.
Многие ненаблюдательные люди утверждают, что все животные одной породы ничем не отличаются друг от друга, что все они будто бы на одно лицо. Но несомненно, что как один человек отличается от другого, так и всякое животное отличается от ему подобного.
Наслаждавшиеся едой медведи служили тому блестящим примером: каждый из них имел свои личные, ему одному присущие особенности. Не было двух медведей совершенно одинаковых по характеру или наружности.
Вот еще одно интересное свойство: я ясно слышал, как в лесу, на расстоянии шестидесяти метров, зеленый дятел долбит древесный ствол; как чирикают лесные птички, даже как скачет по хвойной подстилке рыженькая белка, но ни единого раза я не слыхал, что приближается медведь. Их огромные лапы переступали своей мягкой подошвой, не хрустнув веткой, не зашуршавши листком, – в таком совершенстве владели они искусством беззвучно пробираться по лесу.
Глава III
Целое утро медведи приходили, уходили или бродили около моей засады поодиночке, не подозревая о моем присутствии.
К трем часам просека стала оживленнее.
Теперь над кучей с отбросами трудились четыре больших черных медведя. Среднее место занимал Толстяк, который, прежде чем приняться за еду, растянулся во всю длину, выражая своей фигурой спокойное медвежье довольство. Чтобы не двигаться с места, он по временам все дальше и дальше вытягивал свой язык, как длинную, красную змею, и, пыхтя, старался захватить лакомый кусочек, которого он не мог достать лапой.
Позади него тощий Яков изучал консервную банку из-под морского рака. Два других медведя с изумительной быстротой и ловкостью вылизывали жестянки из-под консервированных фруктов. Цепкая лапа придерживала жестянку, в то время как длинный язык осторожно проходил через узкое отверстие, минуя острые края, и дочиста вылизывал последнюю сладкую капельку сиропа.
Эта забавная сцена тянулась так долго, что я успел сделать набросок в своем альбоме; как вдруг – она была внезапно прервана.
Мое внимание привлекло какое-то движение на холме, из-за которого появлялись все медведи, выходя на просеку. Теперь из-за холма показалась большая черная медведица с худеньким медвежонком. Это была Ворчунья с маленьким Джонни.
Старая медведица кралась вдоль просеки к месту пиршества, а Джонни, все время ворча, ковылял за ней. Мать следила за ним так же заботливо, как наседка за своим крохотным цыпленком.
Метрах в двадцати от свалки она обернулась к сыну и что-то проворчала, что, судя по произведенному впечатлению, должно было означать что-нибудь вроде: «Джонни, дитя мое, я думаю, тебе лучше подождать здесь, пока я прогоню этих молодцов».
Джонни послушался; но ему хотелось видеть, что произойдет, и потому он уселся на задние лапы, глядя во все глаза и навострив уши.
Ворчунья подходила степенно, большими шагами, издавая предостерегающее ворчанье по мере того, как приближалась к четырем медведям. Но те были так увлечены пиром, что не заметили появления нового собрата до тех пор, пока Ворчунья, находившаяся теперь от них всего в четырех метрах, не издала нескольких громких, похожих на кашель, звуков и не бросилась на них.
Странное дело! Медведи и не подумали сопротивляться, и узнав, ее, тотчас же рассыпались по лесу.
Тощий Яков мог вполне рассчитывать на свою прыть; два его собрата отстали от него не намного, но зато бедный Толстяк, тяжело пыхтя и переваливаясь, как все тучные животные, передвигался медленно и, к несчастью для него, в сторону Джонни. Зато ему и попало за всех! Ворчунья, очутившись в несколько прыжков около него, закатила ему вдогонку две здоровых затрещины, от которых он, если не прибавил шага, то переменил направление и громко взвыл. Ворчунья, оставшись единственной обладательницей всех лакомых сокровищ мусорной кучи, обернулась к сыну и издала визгливое: «Э-р-р-р! Э-р-р-р!».
Джонни радостно ответил и изо всех сил заковылял на своих трех здоровых лапах.
Когда он очутился рядом с матерью на куче отбросов, началось времяпрепровождение настолько приятное, что Джонни даже перестал ворчать.
Он, конечно, бывал здесь и раньше, так как отлично знал, что в банках находятся лакомства. Можно было даже предположить, что он узнавал бумажные наклейки, потому что жестянки из-под морских раков не привлекали его внимания до тех пор, пока он находил жестянки из-под варенья.
Некоторые консервные банки причиняли ему много хлопот, так как он был жаден и то и дело царапался об их острые края.
У одной соблазнительной жестянки было такое большое отверстие, что в него пролезала вся морда Джонни, и медвежонок блаженствовал в течение нескольких минут, вылизывая все ее уголки. Но когда он попробовал вытащить морду, начались напасти: бедняга попался. Долго он не мог вырваться – царапался и визжал, как избалованный ребенок, доставляя матери, не знавшей, как ему помочь, большое беспокойство. Высвободив, наконец, голову, он со злости принялся изо всех сил колотить лапами по жестянке, пока не расплющил ее.
Зато большая банка из-под сиропа осчастливила его надолго: она была с крышкой, и поэтому края ее оказались гладкими и ровными. Однако отверстие было недостаточно велико для того, чтобы в него могла войти морда медвежонка; языком же достать содержимого он не мог, так как банка была довольно высока. Но Джонни был малый не промах, и тотчас же нашел другой способ добраться до сладкого сиропа: запустив в банку свою маленькую черную лапу, он выскреб ею внутренность жестянки, потом вынул ее и начисто обсосал. Проделал он это несколько раз подряд, пока банка внутри не оказалась так же чиста, как только что выпущенная с завода жестяных изделий.
Копаясь в мусорной куче, Джонни набрел на сломанную мышеловку; озадаченный ее видом, медвежонок взял ее в передние лапы и крепко зажал, намереваясь с нею поближе познакомиться. Запах сыра был несомненно заманчив, но незнакомый предмет издал такой странный звук, когда он ударил по нему лапой, что Джонни едва удержался от того, чтобы не взвыть от испуга. Осмотрев мышеловку с самым серьезным видом, наклоняя голову то направо, то налево и сложив губы трубочкой, он в наказание подверг ее судьбе строптивой сиропной жестянки и был вознагражден за это, найдя среди ее обломков вкусный кусочек сыру.
По всей вероятности, Джонни никогда не приходилось слышать об отравах, так как он ничем не брезговал. После того как истощилось варенье и фруктовые запасы, медвежонок обратил свое внимание на жестянки из-под морских раков и сардинок. Не остановился он и перед мясными консервами для армии. Вскоре его лапы от долгого лизания стали такими блестящими, словно на них надели шелковые перчатки.
Глава IV
Вдруг мне пришло в голову, что я нахожусь в опасном положении, так как встретить одинокого медведя, это – одно, а потревожить сердитую медведицу, испугав ее детеныша, – совсем другое.
«Предположим, – думал я, – что этому сорванцу Джонни придет в голову фантазия прогуляться на другой конец свалки и заглянуть ко мне в яму; он, без сомнения, тотчас же поднимет вой, и его мать, уверенная в том, что я хочу обидеть ее сынка, вздумает встать на его защиту, тогда дело примет весьма неприятный для меня оборот».
К счастью, все жестянки из-под варенья были в том конце кучи; Джонни же имел тяготение к ним, а Ворчунья – к Джонни.
В то время как я размышлял на эти неприятные темы, Ворчунья набрела на большую банку из-под варенья; Джонни тотчас же решил, что это самая лучшая из всех жестянок, которые ему когда-либо удавалось найти, и кинулся с визгом отнимать ее у матери; тут он случайно взглянул в сторону холма.
Там Джонни увидел что-то такое, что заставило его присесть на задние лапы и испустить своеобразный, жалобный крик: «Кофф-кофф-кофф!»
Мать быстро обернулась и тоже присела на задние лапы, чтобы узнать, что могло привлечь внимание ее детеныша.
Я посмотрел по тому же направлению и – о, ужас! – увидел огромного серого медведя. Это было настоящее чудовище, приближавшееся к нам из-за деревьев.
Джонни тотчас же завыл и спрятался за мать. Ворчунья испустила глухое рычанье, и вся шерсть на ее спине встала дыбом. Мне почудилось, что волосы на моей голове тоже зашевелились от страха, но сам я старался не шевелиться.
Серый медведь приближался величественной поступью.
Его широкие плечи и серебристая одежда, переливавшаяся при каждом движении, производили впечатление устрашающей мощи. Джонни завыл громче; я не последовал его примеру, но в ту минуту сочувствовал ему вполне.
После недолгого колебания Ворчунья обратилась к своему неугомонному детенышу и пробормотала что-то, прозвучавшее в моих ушах как троекратное отрывистое: «Кофф-кофф-кофф!» и, вероятно, означавшее: «Дитя мое, тебе безопаснее взлезть на это дерево, пока я пойду и прогоню эту серую скотину!»
Во всяком случае, это было то, что Джонни немедленно и исполнил; но он был любопытен от природы, и ему необходимо было увидеть то, что произойдет на просеке. Поэтому он не удовольствовался тем, что спрятался в чаще сосновых ветвей, а взобрался на самую высокую ветку, которая только могла его выдержать.
Там, резко выделяясь на фоне голубого неба, он барахтался и визжал изо всей мочи. Ветка, на которой он сидел, была так тонка, что гнулась под его тяжестью, качаясь из стороны в сторону, и я каждую минуту ожидал, что она обломится.
Если бы она обломилась в мою сторону, Джонни неминуемо свалился бы на меня, что повлекло бы за собой неприятность между мной и его матерью. Но, или ветка оказалась прочнее, чем можно было предположить, или же Джонни обладал необыкновенной сноровкой, только он не выпустил ее из лап, и она не сломалась.
Между тем Ворчунья пошла навстречу серому медведю. Она поднялась во весь рост и двинулась на него, рыча и оскалив зубы.
Насколько я мог судить, серый медведь – из породы, называемой «гризли», – ее не заметил. Он спокойно подходил к свалке, предполагая, что там никого нет. Но Ворчунья, приблизившись к нему на расстояние шести метров, издала ряд коротких рычаний, похожих на кашель, сделала огромный прыжок и, напав на своего противника, сильно ударила его по уху.
Серый медведь был поражен неожиданностью, но тотчас же ударом левой лапы легко отбросил ее, как мешок с сеном. Нисколько не испугавшись, но еще больше рассвирепев, Ворчунья вскочила и кинулась на него. Тут они сцепились, не жалели ударов, рыча, фыркая и обдавая друг друга градом мусора в пылу сражения.
Сквозь весь этот шум я ясно различал, однако, голос Джонни, который визжал изо всех сил, подбодряя свою мать и поощряя ее как можно скорее покончить с серым медведем.
До сих пор не могу понять, почему тот не перешиб ее пополам? После борьбы, продолжавшейся несколько минут, в течение которых я видел только взлетавшие в воздух огрызки, картофельную шелуху, со звоном катившиеся в разные стороны консервные банки и мелькавшие среди всего этого медвежьи лапы, медведи вдруг разошлись, словно по обоюдному соглашению, с минуту стояли неподвижно, глядя друг на друга. Ворчунья еще не казалась утомленной.
Серый медведь, видимо, готов был на этом покончить: он был не охотник до борьбы. Ему и в голову не приходило заняться Джонни; он желал только одного – спокойно поесть.
Но не тут-то было! Едва он сделал шаг к куче отбросов, или, как думала Ворчунья, – к Джонни, она опять бросилась на него. На этот раз серый медведь приготовился дать ей хороший отпор: одним ударом он сбил ее с ног и свирепо отшвырнул на большой вывороченный сосновый корень.
Теперь Ворчунья была сражена не на шутку. Сильно ударившись и наколовшись о корень, она, казалось, не могла больше бороться. С трудом поднявшись с земли, медведица попыталась было увильнуть, но серый медведь рассвирепел и пустился вдогонку. Несколько минут оба состязались в беге. Ворчунья, более легкая на подъем, ухитрялась все время оставлять между собой и противником тот сосновый корень, о который она только что ударилась, а Джонни, сидя в безопасности на дереве, продолжал принимать в происходившем самое напряженное и шумное участие.
Наконец, видя, что так ему Ворчуньи не поймать, серый медведь обескуражено сел на задние лапы. В то время как он придумывал новый способ наступления, Ворчунья не дремала: выбрав удобную минуту, она проворно отскочила от спасительного корня, и, с необыкновенной для такого грузного животного ловкостью, взобралась на ту же сосну, где сидел Джонни.
Медвежонок спустился ей навстречу, вероятно, опасаясь, что дерево сломится под новым грузом.
Сфотографировав из своей засады эту интересную группу, я решил во что бы то ни стало посмотреть на них поближе, и в первый раз за весь день вылез из ямы и побежал к сосне, на которой укрылись медведица с детенышем. Оказалось, что я прогадал, так как очутился под густыми нижними ветками, сквозь которые никак не мог видеть того, что делается наверху.
Я плотно прислонился к стволу и высматривал, не удастся ли мне как-нибудь навести на них аппарат сквозь густую хвою, как вдруг старая Ворчунья начала спускаться, скрежеща зубами и издавая свой угрожающий кашель по моему адресу. Растерявшись, я не знал, что мне предпринять, как вдруг позади себя услышал голос, окликавший меня.
– Послушайте, сударь! Не лучше ли вам отойти? Эта старая медведица может вас придавить!
Я обернулся и увидел паркового сторожа: он проезжал верхом на лошади в ту самую минуту, когда события развертывались столь неблагоприятно для меня.
– Вы знаете этих медведей? – обратился я к нему, когда он поравнялся со мной.
– Полагаю, что знаю, – ответил он. – Вон тот, на самом верху, – маленький озорник Джонни, а пониже – Ворчунья, тоже озорница, но уже опасная. Вообще-то она смирная; только, когда Джонни так воет, на нее полагаться не приходится.
– Мне хотелось бы сфотографировать ее, когда она спустится вниз, – сказал я.
– В таком случае мы вот что сделаем: я побуду здесь, и если она вздумает на вас броситься, уж я-то сумею ее удержать, – заявил сторож.
Он стоя подле меня все время, пока Ворчунья медленно спускалась с сучка на сучок, зловеще ворча. Но по море приближения к земле она старалась держаться все дальше от ствола и, постепенно добравшись почти до самого конца ветвей, соскользнула с дерева и побежала в лес без малейшей попытки привести в исполнение свою угрозу.
Итак, Джонни снова остался один. Он взобрался на прежнее место и по-прежнему жалобно визжал. Я приготовил аппарат и стал его наводить, чтобы непременно снять медвежонка в его любимой характерной позе, которую он принимал всегда, когда тянул свою заунывную песню. Вдруг он поднял голову и завыл, как во время борьбы матери с серым медведем.
Я посмотрел по направлению его взгляда и увидел серого «гризли», шедшего прямо на меня, по-видимому не с целью нападения; но шагал он широко, словно намеревался поскорее добраться не то до свалки, не то до меня.
– А этого медведя вы не знаете? – обратился я к своему спасителю.
Тот ответил:
– Как не знать. Это старый – Серый. Он самый большой в целом парке; занят всегда только своими делами, но никого не боится. Сегодня же он попал в передрягу и, может быть, злобно настроен.
– Мне хотелось бы снять и его, – сказал я, – и если вы мне в этом поможете, я охотно рискну.
– Отлично, – весело согласился сторож, – я с лошадью стану вот здесь, и если он нападет на вас, – кинусь на него. Но имейте в виду, что я могу свалить его только один раз, вторично мне это уже не удастся, так что вам лучше было бы снимать с дерева.
Вблизи имелось только одно дерево, а именно то, на котором сидел Джонни, поэтому совет сторожа не показался мне заманчивым: я живо представил себе, как я лезу на сосну и попадаю в соседство с Джонни, как потом меня настигает мать Джонни, а внизу стоит Серый, готовясь подхватить меня, когда я буду сброшен вниз. Вот почему я предпочел остаться на земле.
Серый приближался, и я снял его на расстоянии около тридцати, потом пятнадцати метров; а он все шел спокойно на меня.
Я сел на кучу отбросов и решил ждать. Оставалось десять, восемь, шесть… наконец... четыре метра, а он все шел, пока вопли Джонни, сидевшего на сосне, не достигли высшего напряжения. Тогда Серый остановился в трех метрах от меня и, повернув свою лохматую голову, чтобы узнать причину шума, раздававшегося на верхушке дерева, стал ко мне в профиль. Аппарат щелкнул. Услыхав его, медведь повернулся ко мне с громовым рычанием.
Я не трогался с места и трепетал, думая, что настал мой последний час. Медведь на мгновение уставился на меня, и я даже мог различить зеленые фосфорические огоньки, светившиеся в его глазах. Затем он спокойно отвернулся и поднял с земли большую жестянку из-под томатов.
«Вот так история! – подумал я, – неужели он собирается запустить в меня ею?»
Но Серый тщательно вылизал жестянку, бросил, взял другую, совершенно забыв обо мне и Джонни и считая, вероятно, ниже своего достоинства обращать на нас внимание.
Я медленно и почтительно отошел от него, предоставив ему беспрепятственно пользоваться всей грудой отбросов, а Джонни тем временем продолжал неистово визжать на своей спасительной верхушке.
Что сталось с Ворчуньей к концу дня – я не знаю. Джонни же, поорав еще некоторое время, сообразил, что за недостатком сочувствующей публики благоразумнее будет перестать.
Так как поблизости не было матери, которая подумала бы за него, медвежонок сам пытался сообразить, что ему делать, и тут же доказал, что он гораздо сметливей, чем можно было от него ожидать. Внимательно наблюдая за Серым с лукавым выражением на черной мордочке, он дождался, пока тот в поисках за лакомыми банками отошел на приличное расстояние, и бесшумно соскользнул со ствола. Несмотря на то, что к его услугам было только три здоровых лапы, он быстро, как заяц, добежал до ближайшего дерева на опушке лесной прогалины и, не переводя духа, взобрался на самую верхушку. Видимо, он был твердо убежден в том, что единственной целью Серого было убить его, а взлезть за ним на дерево, по мнению Джонни, он не мог. Потом он опять долго и внимательно наблюдал за Серым, который не обращал на него решительно никакого внимания, занятый исследованием богатых и лакомых запасов мусорной кучи, и, опять спустившись на землю, побежал к следующему дереву, надеясь ввести в заблуждение своего врага.
Так он перебегал с дерева на дерево, каждый раз взбираясь на самую макушку, – пока не скрылся в лесу.
Через десять минут его голос, донесенный ветерком из лесу, визгливо зазвенел в воздухе: в нем слышалась обычная капризная нотка, показавшая мне, что он нашел мать и по-прежнему взывал к ее нежным чувствам.
Глава V
В это лето редкий день не проходил без того, чтобы Ворчунья не попадала впросак из-за своего озорного сына.
Но самый позорный случай произошел с ней вскоре после столкновения с Серым.
В первый раз я услышал эту историю от трех парковых сторожей, а затем она была подтверждена и всей администрацией парка.
Кажется, любимым лакомством Джонни были сливы. К этому выводу медвежонок пришел только после утомительных и долгих исканий. Один запах слив, проникавший в его ноздри, приводил Джонни в восторженное состояние. Как-то раз, когда повар Фонтан-отеля напек множество пирогов со сливами, болтливый ветер разнес нежный запах печеных слив, по всему лесу, прилегающему к гостинице. Запах этот, коснувшись обоняния Джонни, смутил его покой.
Джонни в это время по обыкновению хныкал. Мать длинным красным языком вылизывала и приглаживала его всклокоченную и потертую шерсть, а Джонни терпеть не мог эти церемонии. А тут еще запах сливовых пирогов раззадорил его не в меру; он подпрыгнул и, когда мать попыталась удержать его, завизжал и чуть ли не укусил ее.
Отделавшись от ее докучливых забот, Джонни во всю прыть помчался навстречу соблазнительному запаху. Ворчунья же, издав неодобрительное ворчанье, пошла за ним, боясь, как бы он не попал в беду.
Держа свою черную мордочку по ветру, Джонни направился прямо к кухне. По временам он предусмотрительно взбирался на макушку сосны, чтобы осмотреться, а Ворчунья поджидала его внизу.
Когда они совсем приблизились к кухне, – мужество вдруг покинуло Джонни, и он, сидя на дереве, стал жалобными взвизгиваниями выражать свое страстное желание насладиться печеньем со сливами.
Ворчунья сама очень любила желе из слив. Теперь же под самыми окнами кухни запах, разумеется, был очень силен и заманчив, так что Ворчунья, привлекаемая им, осторожно подошла к кухонной двери.
В этом не было ничего удивительного.
Правило «живи и жить давай другим» так строго соблюдалось в парке, что медведи часто приходили к кухонной двери за подачками и, получив желаемое, спокойно возвращались в лес.
Без сомненья, Джонни и Ворчунья добились бы желанных сливовых пирогов, если бы на сцене не появилось внезапно новое действующее лицо.
На этой неделе кто-то из служащих привез в гостиницу новую кошку. Она была величиной немного больше котенка, но уже имела собственное потомство, и в ту минуту, когда Ворчунья очутилась у двери, кошка с семейством грелась на солнце у порога.
Она широко открыла глаза, увидав над собой огромное косматое чудовище. Она никогда раньше не видала медведя, – ведь она была здесь еще недавней гостьей и даже не знала, что такое медведь. Она знала, что такое собака, но перед ней стояла черная короткохвостая собака такой величины, какая ей и не снилась. Первою мыслью ее было спастись бегством, но тотчас же она вспомнила о котятах. Надо было позаботиться о них. По крайней мере, она должна прикрыть их отступление.
Как доблестная мать, кошка бросилась на порог, взъерошив шерсть, выпустив когти, распушив хвост и всей своей маленькой фигуркой выражая недопускающее возражений требование остановиться.
Выражение это не ускользнуло от Ворчуньи: видевшие эту сцену утверждают, что она немедленно остановилась и даже для удобства поднялась на задние лапы. Благодаря этой позе медведица сделалась еще огромнее и выше, а кошечка рядом с ней казалась совсем крошечной и копошилась где-то глубоко внизу.
Неужели старая Ворчунья, сражавшаяся даже с самим Серым, отступит теперь перед несчастным маленьким зверьком с пушистым хвостиком, которого она могла бы проглотить за один присест? Она почувствовала стыд, в особенности, когда жалобный визг Джонни коснулся ее слуха и напомнил ей о ее материнских обязанностях.
Она опять опустилась на передние лапы, чтобы продолжать путь.
Но кошка снова изогнулась дугой, распушила хвост и всей своей бесстрашной маленькой фигуркой выразила готовность к борьбе.

Ворчунья не обратила внимания на маленькое смелое животное и продолжала подвигаться. Тут испуганное мяуканье одного из котят придало кошке бодрости, и она сразу положила конец наступлению врага: имея в своем распоряжении восемнадцать острых когтей и полный рот не менее острых зубов, кошка высоко подпрыгнула и с силой отчаяния вцепилась в голый нос Ворчуньи – самое чувствительное ее место, а затем отпрянула на более безопасное место, иными словами, забралась медведице на загривок, – туда, где ее не могли достать острые когти косматого страшилища.
После нескольких тщетных попыток стряхнуть с себя маленького пестрого противника, Ворчунья круто повернула, решив покинуть поле битвы и спастись бегством в родные леса.
Но в кошке разгорелся боевой пыл. Она уже не довольствовалась тем, что прогнала врага, ей нужно было его полного, окончательного поражения. И, несмотря на то, что старая Ворчунья скакала во весь опор, кошка продолжала сидеть на ней, изо всех сил работая когтями и зубами.
Ворчунью, не отличавшуюся большой сообразительностью, обуял непреодолимый ужас. След несущейся по двору пары был отмечен клочьями длинной черной шерсти.
Медведица с кошкой на спине неслись в бешеной скачке.
Ворчунья была разбита, унижена и готова на всякие уступки, но кошка оставалась глуха к ее умоляющим, кашляющим повизгиваниям. И кто знает куда увлекла бы ее победительница, не вступись тут Джонни; заорав во всю мочь с дерева, он, сам того не ожидая, подал матери новую мысль.
Ворчунья тотчас же привела ее в исполнение и стремглав взобралась на дерево. Сосна, на которую Ворчунья затащила кошку, для этой последней представляла несомненно враждебный лагерь, и, принимая во внимание подкрепление, которое ежеминутно мог получить ее враг, кошка благоразумно решила не следовать далее.
Она спрыгнула со спины медведицы на землю и стала, словно на часах, прогуливаться вокруг соснового ствола, всем своим видом приглашая противников сойти, если только они посмеют.
Вскоре пришли и котята и окружили мать. Наблюдавшая за всем этим из окон гостиницы прислуга уверяла, что осадное положение Ворчуньи и Джонни продолжалось до тех пор, пока не пришла кухарка и не отозвала свою кошку.
Глава VI
В последний раз я видел Джонни на верхушке дерева: он сидел на толстой сосновой ветке и, по своему обыкновению, капризно визжал, в то время как мать его рыскала внизу, между сосен.
Было начало августа, и характер Ворчуньи заметно изменился. Ее привязанность к Джонни стала, видимо, ослабевать: медвежонок подрос, стал более самостоятельным, а медведица готовилась снова стать матерью; поэтому к концу месяца Джонни иногда по полдня проводил в полном одиночестве на верхушке какой-нибудь сосны и имел в этих случаях очень жалкий вид.
Последняя глава его истории кончилась уже после того, как я покинул те края.
Несколько времени спустя мне рассказали, как это случилось.
Однажды на рассвете Джонни плелся за своей матерью, направлявшейся к гостинице. Недавно нанятая прислуга-ирландка была уже на ногах и возилась в кухне.
Выглянув в окно, она, как ей показалось, увидела теленка в ненадлежащем месте и побежала прогнать его. Но открытая кухонная дверь, после происшествия с кошкой, напомнила Ворчунье о таких ужасах, что она бросилась бежать без оглядки. Джонни заразился ее страхом и, так как не мог поспеть за ней, бросился на первое попавшееся дерево, при ближайшем рассмотрении оказавшееся столбом.
Мигом он очутился на самом верху, в двух метрах от земли, и огласил свежий утренний воздух жалобными воплями.
И было от чего на этот раз: Ворчунья, не в пример прежнего, преспокойно удирала одна, и Джонни на верхушке своего столба оказался лицом к лицу с целым человеческим обществом.
Сначала к столбу подбежала новая кухарка, затем на ее крики из гостиницы выбежало еще несколько слуг; все они громко кричали и размахивали руками. Совершенно растерявшись, Джонни метнулся на своем столбе и, не удержавшись за его гладкую поверхность, сорвался вниз.
Молоденькая кухарка громко вскрикнула и всплеснула руками; Джонни, глухо ударившись оземь, отчаянно взвыл и попытался подняться на ноги, но не тут-то было: одна из трех его здоровых ног отказывалась служить, и при каждой новой попытке приподняться медвежонок беспомощно валился на бок.
Принесли ошейник и цепь; и после борьбы, в которой некоторые были порядком поцарапаны, удалось, наконец, надеть на Джонни ошейник, прикрепить цепь к столбу и подать ему первую медицинскую помощь: у него оказался двойной перелом передней правой ноги.
Когда Джонни убедился в том, что он пойман, он был так взбешен, что даже не мог визжать. Бедняга кусался, царапался и рвался, пока не выбился из сил. Тогда он отчаянным визгом стал призывать мать. Раза два она показывалась вдали, но не решалась еще раз встретиться с кошкой и скрылась, предоставив Джонни его судьбе.
Большую часть дня медвежонок то метался, то ревел. К вечеру он окончательно измучился и обрадовался, когда кухарка Нора принесла ему поесть: она считала своим долгом заботиться о медвежонке, так как отчасти была виновницей его плена и болезни. К вечеру добрая девушка приготовила своему новому питомцу теплую подстилку в сарайчике около кухни, у которого Джонни был привязан, и среди ночи медвежонок так промерз, что решил воспользоваться приготовленной ему постелью.
В следующие дни Ворчунья часто приходила на свалку, но, по-видимому, скоро совсем забыла о своем сыне. Теперь за ним ходила Нора и аккуратно его кормила. Но иногда Джонни случалось получать и кое-что другое. Однажды, когда девушка принесла ему еду, он поцарапал ей руки, тогда Нора совершенно спокойно, не говоря ни слова, взяла с земли миску, полную вкусной еды, и унесла ее с собой в кухню. Дверь за ней плотно захлопнулась, и Джонни остался ни с чем. Сначала он ничего не понял и, сев на задние лапы, стал ждать, но когда прошло несколько минут, а затем и четверть часа, Джонни поднял свою черную остренькую мордочку и взвыл на весь Иоллостонский парк. Сначала он попробовал было надуться на свою воспитательницу, но, проголодавшись, смирился, и с тех пор чувствовал к Норе большое уважение. Она, в свою очередь, принимала горячее участие в оставшемся без матери медвежонке, и через две недели характер Джонни стал заметно улучшаться. Он стал гораздо меньше визжать и капризничать, а вспышки гнева и совсем прекратились.
К концу сентября перемена стала еще поразительнее. Окончательно покинутый матерью медвежонок привязался к Норе. Лаской и хорошим уходом она сделала из него очень благовоспитанного зверька. Иногда Джонни на несколько часов спускали с цепочки, и тогда он отправлялся не в лес, а в кухню, к Норе, и ходил за ней по пятам на задних лапах.
Так однажды он познакомился со страшной пестрой кошкой, виновницей перемен, происшедших в его судьбе; но у Джонни был теперь могущественный друг, и кошке пришлось примириться с черным косматым непрошеным гостем.
В виду предстоявшего в октябре закрытия гостиницы, начались толки о том, чтобы выпустить Джонни на волю или отправить в Вашингтонский зоологический сад. Но ни тому, ни другому не суждено было осуществиться.
В последних числах сентября, когда наступили морозные ночи, поведение Джонни стало совсем безупречным, но зато у него появился сухой зловещий кашель.
При осмотре оказалось, что причина его недомогания заключалась не в хромой ноге, а лежала гораздо глубже, вероятно, в седалищной кости, что указывало на слабый и маловыносливый организм. Он не жирел, как большинство медведей, попадающих в неволю, а, наоборот, худел. Его брюшко совсем втянулось, кашель усилился, и однажды утром его нашли на подстилке совсем больным и дрожащим в лихорадке.
Нора внесла его в дом, и тепло на него так хорошо подействовало, что его так и оставили на кухне.
Несколько дней он чувствовал себя лучше. В нем ожило даже его прежнее любопытство, он стал снова живо интересоваться всем происходящим вокруг. Особенно привлекал его большой пылающий огонь в плите, и когда через открытую заслонку сверкало румяное, горячее и словно живое пламя, он принимал свою любимую позу, как прежде, когда был здоров, и пристально смотрел на огонь.
Но через неделю и это перестало его интересовать. Медвежонок, видимо, угасал с каждым днем. Наконец, самый громкий шум, самое оживленное веселье не могли пробудить в нем былого интереса к окружающему. Кашель его усиливался с каждым днем, и наружность становилась все более и более жалкой.
Он чувствовал себя спокойно и хорошо только иногда, когда Нора, лаская его, гладила его спутанную поредевшую от болезни шерсть.
За несколько дней до закрытия гостиницы, медвежонок с утра не мог ничего есть и только жалобно стонал. Когда Нора подошла к нему и присела на полу около его подстилки, он прижался к ней, его тихое «эр-р-р...эр-р-р» стало еще тише и, наконец, совсем умолкло.
Через полчаса, когда Нора, собираясь приниматься за дело, наклонилась к Джонни, чтобы еще раз его погладить, медвежонок был неподвижен: он умер в своей любимой позе, положив острую мордочку между вытянутыми перед собой лапами.