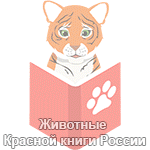Разоренное гнездо
Автор: А. Сливицкий, 1907 г.
I. Мишук-малютка
II. Топтыгинский род
III. Заглянем в берлогу
IV. Где же отец?
V. Счастливая пора
VІ. Первая прогулка
VII. Лето
VIII. Крестьянское горе
IX. Нечаянная встреча
X. Косолапая амазонка
XI. Материнская месть
XII. Переполох в деревне
XIII. Пора в берлогу
ХІV. Не все коту масленица
XV. Опасность
ХVI. Трудно в свете жить сиротинушке
XVII. Почему упрямилась Жучка
XVIII. Базар
XIX. Первое знакомство
XX. Мишук получат квартиру и знакомится со своим соседом
XXI. Альма и Топтыгин
XXII. Мишук чувствует себя как дома
XXIII. За кем вины не сыщешь?
XXIV. Счастливый случай помогает Топтыгину загладить свою вину
XXV. Мишук приобретает новый друзей, но поступает с ними совсем не по-дружески
XXVI. Елка
XXVII. Топтыгин переезжает в лагерь
XXVIII. Беззаботная жизнь
XXIX. Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить
XXX. Неосторожное обращение с огнестрельным
XXXI. Самовольное присвоение высшего офицерского чина
XXXII. Мишук приговорен к смерти
XXXII. Дикарь
XXXIV. Сердце сердцу весть подает
XXXV. Заключение
I. Мишук-малютка
Наш Мишук появился на свет вместе с сестрицею. Они родились такими маленькими, что их обоих можно было уложить в шапку. Они были слепы и не знали, где лежат, и кто около них находится.
А с ними была мать: она лизала своих деток и уютно укладывала их около себя, чтобы согреть бедняжек своим телом. Малютки точно озябли: на дворе стоял март в начале; было еще холодно; зима едва кончалась, и повсюду белел еще снег.
У малюток была красивая шерсть, гладкая, густая, темно-коричневого цвета; на шейках шерсть была белая, и казалось, будто на зверьках надеты ошейники. Мордочки их были сужены, с тупыми концами; ушки маленькие, кругленькие; у них было по четыре лапки, на каждой по пять пальцев с острыми когтями. Хвостики их были коротенькие, едва заметные. Вообще ребята были смешные и неуклюжие.
Вот появились они на свет и прежде всего громко и жалобно завизжали... но, наконец, материнские ласки успокоили их: они нашли себе пищу – молоко матери – и стали сосать, тихо взвизгивая.
II. Топтыгинский род
Дальняя родня Топтыгиных живет чуть ли не по всему свету: и там, где всегда жарко, и там, где очень холодно: и в Азии, и в Европе, и в Америке.
Но прадеды, деды и родители Топтыгиных проживали у нас, в России, в гористой и покрытой лесами Пермской губернии. Среди этой губернии тянутся Уральские горы; между ними лежат болота. И горы, и болота покрыты лесами, темными, глухими, непроходимыми – дремучими лесами. И эти дебри тянутся на сотни верст в длину и ширину.
В лесах – овраги, глубокие, крутые; в них человеку страшно и заглянуть. Эти овраги переполнены дикой малиной, брусникой, черемухой, смородиной... И все леса изрезаны ручейками и речками.
Вот какие неприступные трущобы полюбились угрюмым Топтыгиным.
Еще бы! Тут они находили все, что любят медведи – леса, горы и овраги, обилие ягод и грибов, ручейки и речки, переполненные рыбой, и наконец – прохладные болота, куда так любят забираться медведи в полуденный зной. Много лет провели Топтыгины в этих лесах. Тут они выросли, тут и сами воспитали не один десяток медвежат, которые давно забыли и думать о своих родителях.
Воспитывала Топтыгина своих детей в течение трех лет, и только после этого срока прогоняла их от себя, и те начинали жить своим умом. Таким образом жизнь матери проходила в постоянных хлопотах. Вот и теперь: семейство Топтыгиной увеличилось, появились на свет Мишук с сестрицею – а между тем не подросли еще их старшие брат и сестра: им было теперь только по годочку. С этими старшими мать пронянчилась вплоть до зимы.
К зиме она стала приискивать уголок для зимнего помещения. В одном из глухих оврагов, близ подошвы его, она вырыла в горе углубление сажени в три длиною; натаскала в него моху, листьев и травы; из всего этого сделала мягкую постель; потом наносила к этой пещере хворосту. Берлога была готова.
Завернула зима, и Топтыгина с детьми улеглась в своем уютном жилище. Они не то спали, не то дремали, посасывая свои лапы. Их никто не тревожил: человек не заходил в такую глушь, а звери издали чуяли запах медведя и боялись приближаться к жилищу Топтыгиных.
Когда наступили сильные морозы, мать заложила хворостом вход в берлогу и, закупорившись совершенно, дремала в ней безвыходно. В этом-то уютном домике и родился наш Мишук.
III. Заглянем в берлогу
Малютки пищать перестали. Знать накушались и уснули. У самого входа лежит Топтыгина: своими лапами она обхватила малюток, прикрыла их сверху мордой и грустно думает о будущем: «И самой прокормиться-то надо, и старших детей прокормить, а там и эти крошки подрастут... Ох, что-то будет, что-то будет! Измаюсь я за лето!»
Под эти думы мать задремала и, по своей неловкости, уж очень придавила Мишутку. Снова начался визг, снова мать стала лизать ребят, пока они угомонились.
Позади матери лежат ее старшие дети. Они не спят: писк маленького братца разбудил их на время. За зиму они очень проголодались, и вот теперь, свернувшись в клубок, уперши морду в грудь и скрестив лапы перед мордою, сердечные тоже мечтают о летних похождениях, о вкусных ягодах, о свеженьком мясе, о сладком меде... Ах, как вкусно! Даже слюнка потекла изо рта... С горя бедняги стали лизать свои лапы.
Несчастные! Шутка ли сказать – целую зиму просидеть в берлоге без пищи! Как еще они живы остались? Верно они за лето так отъедаются и так жиреют, что потом хотя всю зиму и голодают, но умереть все-таки не могут, а только очень худеют. И точно они были худы до безобразия.
Отца Топтыгиных в берлоге не было.
IV. Где же отец?
Топтыгин любил уединенную жизнь, а потому ежегодно, в середине лета, расставался со своей супругой и жил особняком. К зиме он устраивал себе особую берлогу, в которой дремал одиноко. Весною он навещал свою семью.
Весна приближалась. Семейство Топтыгиных скоро увидит отца... Но нет. Они его больше никогда не увидят.
В конце прошлого лета с Топтыгиным произошла грустная история. Вот как это было:
Топтыгин любил сосать зреющий овес. Вблизи леса находилось поле, засеянное овсом. Когда зерна стали наливаться, медведь всякий вечер приходил в поле и сосал сочные колосья целую ночь, до рассвета. Он распоряжался здесь, как добрый хозяин, зря овса не топтал, а поджинал его подряд, начиная всегда с того места, где кончил накануне.
Крестьяне вышли из терпения.
– Этак он все поле испортит! – говорили они, – не столько съест, сколько примнет.
– Подкараулим его, ребята, сегодня же вечером! – воскликнул один храбрец, – сегодня и ветер дует от лесу, стало зверь нас не учует и придет беспременно!
Вечером два крестьянина зарядили ружья, захватили с собою по большому ножу и отправились в путь. Они пришли на место за час до заката солнца.
– Хорошо было бы на дерево забраться, да дерева подходящего нет, – сказал один охотник.
– Вот куст хороший, – заметил другой, – за кустом и сядем. Отсюда стрелять будет сподручно.
Охотники спрятались за куст и примолкли. Прошло с полчаса, – у опушки леса что-то затрещало. Видят охотники – идет медведь, большущий – что твоя корова.
Это был Топтыгин. Тихо двигался он, обнюхивая воздух. Но ветер относил запах человека в обратную сторону.
– Экой большущий! – подумали охотники, и у них дрогнуло сердце.
Медведь стоял перед ними шагах в тридцати. Он осмотрелся, подошел к овсу, лег на брюхо и стал передними лапами поджинать под себя колосья, со вкусом посасывая их. Охотники стояли, как вкопанные. А сердечко у обоих так и стучит. Но стрелять они не торопились: надо было дать медведю войти во вкус.
– Ах, как сладко! – ворчал Топтыгин, посасывая овес. Вдруг ему послышалось, как будто что-то щелкнуло. Он приподнял голову, стал прислушиваться, хотел было бежать... Паф!!.. И не успел Топтыгин шевельнуться, как страшная сила ударила его в лоб...
В лесу раскатилось эхо. Стая ворон с криком поднялась над лесом; из овса взлетело несколько птичек. Потом все стихло; дым рассеялся.
– Лежит! – воскликнул охотник.
– Знать в лоб угодил? – спросил другой.
Крестьяне подошли к медведю. Он лежал на брюхе, опустив голову; в передних лапах держал он пучок колосьев. Так погиб Топтыгин.
Медведица не знала о смерти мужа. А для детей такая потеря была не велика: Топтыгин вовсе не заботился о своем семействе.
V. Счастливая пора
Пока стояли холода, жизнь Топтыгиных была очень скучна и однообразна: все лежат да дремлют, посасывая свои лапы. Изредка мать вылезала из берлоги, чтобы напиться. А съедобного зимою чего же найдешь? Разве удастся перехватить кое-каких кореньев.
Однако не все же быть зиме, – наступила и весна. Воздух потеплел; снег стаял; птички весело зачирикали; кое-где показалась травка... Все чаще и чаще выходила Топтыгина из своего зимнего убежища, но детей с собой не брала. А тем сильно хотелось прогуляться.
Четыре недели малютки были слепы – теперь они прозрели и с любопытством рассматривали свою родню:
– О, какая большая наша мамаша! – подумали крошки. Потом подползли к старшим и стали заигрывать с ними. Мишук ужасно надоедал своему брату; тот долго терпел, пятился от шалуна, пыхтел, но наконец потерял терпение и закатил ему пощечину. Мишук взвизгнул. Мать кинулась на старшего сына и отколотила его не на шутку.
– Ты большой, – сказала она, – не смей обижать маленьких! Ты должен смотреть за ними и оберегать их.
С каждым днем ребята становились сильнее. Спустя два месяца они стали ходить, и тут забавам, играм, шуткам, дракам – не было конца. Зверьки проказничали, как шаловливые мальчики. Особенною резвостью отличался Мишук: то станет он бегать по берлоге, как угорелый; то начнет бороться с братом; то вздумает подняться на задние лапы и перекувыркнется, как чурбан, – ну словом, минуты не посидит покойно.
Когда мать уходила, то приказывала старшим не выпускать маленьких из берлоги. Чуть бывало старший заглядится, – Мишук в дверь, и пошел круги задавать... Раз он так-то выскочил, да не успел и одного круга обежать, как сорвался и кубарем полетел в самую глубь оврага. Спохватился старший брат – Мишутки нет. – «Куда он делся, проказник?» думает бедняга: «будет мне уж потасовка от матушки!»
А Мишук в овраге кто есть мочи орет: «брат, брат, помоги!»
Нечего делать, пришлось брату спускаться в овраг. А уж как он этого не любил!.. У медведей задние ноги длиннее передних, а потому идти под гору им очень трудно: голова перетягивает, и редкий медведь при этом не перекувыркнется. Так и случилось. Молодой Топтыгин с первого шагу споткнулся и всей своей тяжестью рухнул на братца. Оба отчаянно заревели. В это время мать подходила к берлоге и видела всю эту сцену. Когда дети поднялись наверх (а это они исполнили скоро, потому что в гору медведи ходят легко) – мать бросилась на старшего сына и надавала ему пощечин, хотя во всем был виноват один Мишутка.
Бедняк уселся в стороне и всплакнул втихомолку. К нему подошла старшая сестра:
– Кто делать, братец? – сказала она, – надобно терпеть. Еще годочек поживем с мамашей, а там ее уж не увидим. Ведь и мы маленькими были не лучше.
– Ну, уж нет, – заревел брат, – мы никогда не были такими, как этот Мишутка: он словно ошалелый.
– И правда – ошалелый! – подхватила сестра. – Посмотрел бы ты, что сейчас было: принесла им мама какую-то птичку, усадила их подле себя, стала делить; только оторвала кусочек, как схватит Мишутка эту птицу, как пойдет ее трепать на все стороны!.. Мама только лапами развела. Смотрела она, смотрела, – покачала головой, да и говорит: «Экой, ты прыткий! В кого ты такой уродился? Несдобровать твоей головушке!»
VІ. Первая прогулка
Наконец дети так подросли, что мать решилась вывести их на прогулку. В одно прекрасное утро, на заре, Топтыгина старательно вылизала своих деток и приказала им следовать за собою.
Впереди пошла мать, за ней Мишук с сестрицей, а сзади – старшие дети. Шли они тихо, не спеша, останавливались на каждом шагу и переворачивали по дороге всякий сучок или камень. Ребята не могли насмотреться на Божий свет.
Мать показывала детям, как добывать пищу: она придавила лапой какого-то жучка и съела его; поймала летевшую бабочку и отдала ее детям. Вот была радость! Бабочка щекотала носы медвежатам, а те фыркали и прыгали до тех пор, пока от бабочки не осталось и следа.
Старшие дети нашли поле земляники. Мишук отведал свежих ягод и чуть не проглотил язык: так они были вкусны.
Вот Топтыгины вышли к болоту. Тут попалась муравьиная куча, и медведица стала ее разрывать. Трудолюбивые муравьи сразу узнали свою разорительницу. С озлоблением облепили они лапы медведицы.
– Где вам, хлопотуны, укусить меня! – ворчала Топтыгина, аппетитно слизывая муравьев со своих лап. – Кушайте, детки, – обратилась она к детям, – кушай, Мишутка! Яичек отведай: больно хороши!
И медвежата принялись уничтожать муравейник за муравейником. Мишутке захотелось напиться; но после материнского молока болотная вода ему не понравилась. Пришлось Топтыгиной прилечь, чтоб покормить медвежат. Однако скоро Топтыгины тронулись дальше, потому что кормить таких кусак, какими стали Мишук с сестрицею, для медведицы было большим мучением.
Какой-то глупый мышонок храбро бежал мимо медведицы: она слегка придавила его лапой и потом отпустила. После такой ласки мышонок убавил прыти и наткнулся на Мишутку. Мишук схватил зверька, совсем неожиданно проглотил его и от восторга выкинул несколько преуморительных прыжков.
На другом берегу болота виднелись маленькие сосенки. Медведице захотелось полакомиться свежими сосновыми побегами. Болото было узко, и медведица без труда переправилась на другой берег. Тем временем старшие дети были заняты весьма приятным делом: они отыскали в траве птичье гнездо и кушали яички. Медвежата совсем растерялись: они желали следовать за матерью, но войти в болото боялись. Видя это, мать сердито рявкнула. Старший сын оглянулся, бросился к болоту и через несколько минут был уже возле матери... И какую же увесистую пощечину получил он за свою поспешность!.. Бедняк догадался, за что он наказан: сконфуженный, он тотчас же возвратился и сначала перетащил Мишутку с противоположного берега, а потом поплыл за младшей сестрицей. Топтыгина все время молча следила за ним. Как на горе он уронил сестрицу в воду... Тогда мать бросилась в болото и задала ему новую трепку.
Да, частенько доставалось от матери молодому Топтыгину: почти каждый день получал он побои. И какой же он был худой да ощипанный!
Молодые сосновые побеги всем очень понравились. На одной сосне сидела смокшая от дождя птица; медведица поднялась на задние лапы, передними обхватила дерево, да так потрясла его, что птица, как камень, упала на землю. Мать разделила ее маленьким детям. Затем Топтыгина прилегла отдохнуть. Мелюзга подсела к ней.
– Ну, что дети, – спросила мать, – хорошо ли гулять?
– Ах, матушка, уж так-то хорошо, что и домой не хочется!
– То ли еще увидите!
Но последнего замечания Мишук не слыхал, он увидел такую штуку, что разинул рот от удивления: на вершине большого дерева сидели два неизвестных чудовища.
– Мама, – воскликнул Мишук, – мама, что это за уроды сидят там на дереве!
– Что ты, Мишук? Какие они уроды? – обиделась мать, – это наши: ты сослепу брата с сестрой не узнал! Ишь куда забрались пострелята!
– Так это наши? – заревели медвежата. – Мама, мама, взлезем и мы!
– Взлезайте, на здоровье!
Медвежата кинулись к дереву. С первого же разу они убедились, что взлезть на дерево совсем не трудно: острые когти отлично помогали им цепляться за кору дерева. Уморительно было Топтыгиной видеть, как медвежата осторожно спускались с дерева задом, робко посматривая вниз и трусливо хватаясь за сучья, чтобы не упасть.
Лазанье по деревьям стало любимой забавой Мишутки. Вся семья удивлялась его ловкости: он мог спускаться с дерева головою вниз.
Семья продолжала прогулку.
Надо заметить, что у медведей отличное чутье и очень хороший слух: они издалека чуют всякий запах и ясно слышат малейший шум. И это для них счастье, ибо видят они очень плохо.
Подул ветерок. Вдруг Мишка чует, что запахло чем-то очень вкусным. Но что это вкусное, медвежонок не знал. Мать и старшие дети сейчас распознали, что пахнет медом. Надо искать улья.
Скорым шагом отправились все на добычу. Топтыгины прошли верных полверсты, пока приблизились к старому гнилому пню, под которым жили осы. Увидели осы грабителей – подняли тревогу. Стали изо всех сил защищать свое богатство – мед, и с ожесточением жалили разбойников.
Но Топтыгины не смущались: они спокойно продолжали лакомиться медом. Косматый мех защищал их от жал насекомых.
Одна злючка-оса вонзила свое жало прямо в Мишкин нос. Мишук сердито заворчал, затряс головой, стал прыгать, фыркать, завертелся, как волчок, и насилу отогнал лапами несносную кусаку. Однако плут отведал-таки меду и полюбил его сильно.
А солнце поднялось довольно высоко; стало душно и жарко, и вот Топтыгины направились к берлоге.
После прогулки дети уснули превосходно. Только Мишук часто вздрагивал и визжал во сне. У него болел нос, и ему снилось, будто громадная оса впилась в его мордочку и жалила его немилосердно.
С этих пор прогулки повторялись ежедневно: семейство выходило из берлоги под вечер, гуляло всю ночь до утренней зорьки и возвращалось домой, когда солнце начинало порядочно жарить.
VII. Лето
Дети росли, здоровели и крепли. Все прогулки да забавы. Про берлогу забыли и думать: в нее заглядывали только в ненастье, а в хорошую погоду и день и ночь проводили около болот.
Одно время Топтыгиной нездоровилось: она линяла. Шерсть клочьями валилась с медведицы, и она имела некрасивый, растрепанный вид. Болезнь эта продолжалась с месяц. Зато к концу лета Топтыгина в новой шубке очень похорошела.
Во время болезни мать нередко оставляла маленьких на попечение старших, а сама пропадала по нескольку дней. Дети не удалялись от того места, которое им указывала мать. Обыкновенно в таком месте было много малины, брусники, черемухи, черники и смородины. Попадался и старый кедр. Дети влезали на него и сбивали сверху кедровые шишки; потом эти шишки катали по земле до тех пор, пока из них не вываливались орехи, которые съедались медвежатами целиком со скорлупой.
Затем дети отправлялись к реке. Там старшие ловили рыбу, а младшие с любопытством следили за ловлей. От рыбок переходили к муравьям, там – к пчелам... Словом – целое лето медвежата только и делали, что жевали и жевали... Аппетит был страшный...
А между тем рыбками да жучками, орешками да ягодками не очень-то накушаешься. И с каждым днем всего этого становилось меньше: ягоды обирались, насекомые исчезали, птички оперялись и улетали с гнезд... И разве такою пищею можно заговеться на целую зиму?
Топтыгина замечала, что ее дети часто голодают. «Экие худые!» – говорила она, – «с таким жиром, где вам зимушку переспать! Мясца вам надо, детки, мясца, да в волюшку его накушаться».
И медведица решилась раздобыть мясца.
VIII. Крестьянское горе
Раз вечером Топтыгина простилась с детьми и спешно пошла лесом. Прошла с версту – поднялась на задние лапы и стала обнюхивать воздух. Чует – за лесом пасутся лошади. Выходит медведица из лесу, видит – табун лошадей.
– Надо прилечь, – думает Топтыгина, – не подойдет ли какая лошадка поближе. – И медведица залегла в траве, на опушке леса.
Ветер дул к лесу. Лошадки не чуяли врага и спокойно щипали траву, изредка пофыркивая.
Долго поджидала Топтыгина свою добычу. Вот одна молодая лошадка отделилась от табуна и мало-помалу стала подходить к лесу. С каждым шагом она приближалась к смерти. Некому было спасти несчастную: по всему Уралу лошади и рогатый скот ходят без пастухов...
Разгорелись глаза у медведицы; дрожит она, как в лихорадке... Десять шагов остается!.. А вот и еще меньше... вот уж совсем близко... Не вытерпела Топтыгина – одолела ее жадность: заревела она, как сумасшедшая, и кинулась на лошадку... Взвилась лошадка на дыбы и полетела прочь стрелой... Долго продолжалась погоня. Несколько раз медведица поднималась на задние лапы, чтобы схватить лошадь за крестец; но та собирала последние силы и прибавляла ходу. Медведица отставала. Однако близился конец. Лошадь начала уставать; бег ее становился неровен; она часто спотыкалась; ноги отказывались служить... Только этого и ожидала Топтыгина. В один миг она очутилась около лошади, схватила ее за крестец, посадила на задние ноги, вскочила ей на спину и с яростью стала грызть загривок несчастной.
Прощай, лошадка! Тебя уж не увидит хозяин!
Медведица оттащила свою добычу в лес, почти за версту, и отлично поужинала: она съела грудь и внутренности лошади. Потом вырыла яму, закопала в нее свою добычу и набросала сверху листьев и хворосту.
– Тут место покойное, – проворчала она, – под утро приведу сюда деток позавтракать.
Испуганный табун стремглав подлетал к деревне.
Услыхали крестьяне конский топот, – догадались: верно приключилась беда. Выбежали сосчитать лошадей.
– Так и есть! Мою вороную зарезал! – завопил Кузьма. – Ах, ты, зверь ненасытный! Всякую осень ты меня грабишь!.. Ну, погоди же, разбойник: уж я тебя добуду!
На утро вся деревня знала: у Кузьмы вороную зверь зарезал. Толковали бедняки:
– Не приведи Бог, как зверь озорничает!
– Чистое разоренье! Одолел зверь! хоть лошадей на волю не пускай!
– Жаль Кузьму горемычного: еще летошний год наказал его зверь, почитай, на сто рублей!
Пошли с Кузьмою в лес искать лошадь. Проходили долго, но вороную не нашли. Когда очутились на опушке леса, один крестьянин сказал: – Смотрите, братцы, как тут трава примята: видно, здесь медведь лежал.
– Знать тут проклятый и вороную мою подстерег! – грустно заметил Кузьма. – А что, ребята? положим в лесу падаль, устроим на деревне лабаз, авось подкараулим зверя.
– Погоди, Кузьма, не время, – заговорили крестьяне, – зверь еще не вылинял, а хотя и вылинял, так шерсть на нем коротка; жиру в нем мало, – убьешь, и десяти рублей не заработаешь. Да и зверь хитер – когда приведется подкараулить его на падали!.. А вот, коли даст бог, в октябре пойдем, как зверь в берлогу заляжет: и покойно и выгодно.
– Больно лошадушку жалко! – проговорил Кузьма, и не выдержал бедняга, заплакал.
– Ничего, – утешали его крестьяне, – Бог милостив: авось зимою берлоги три разыщем, так и двух лошадок купишь.
Пришли домой, еще потолковали немного, да и за работу.
А вороной лошадки как не бывало. Топтыгины покончили ее за один присест: только косточки обглодать голодным воронам оставили. Любо было матери, как дети накушались досыта. После сытного завтрака Топтыгины направились к реке водицы испить.
– Чего-то теперь добуду я вам? – говорила дорогою мать, – вы уж, детки, день-другой кое-чем перебейтесь: вон рябина поспела; яблоки, груши тоже; медком разживитесь; а там, глядите, и опять мясца отведаем.
Напившись, все семейство забралось в непроходимую глушь и уснуло богатырским сном.
Под вечер мать простилась с детьми:
– Пойдите, погуляйте. Малые, слушайтесь старших; а вы хорошенько за ними смотрите.
И дети отправились бродить по лесу.
IX. Нечаянная встреча
Во время прогулки старший брат вдруг почуял приближение кого-то, ему совсем неизвестного. Он старательно обнюхивал воздух и то и дело трусливо фыркал, предупреждая семью об опасности. Все медвежата, навострив уши, обратили свои морды в одну сторону.
Вскоре послышалось пение. Так звонко и громко могла бы петь только очень-очень большая птица. Старший Топтыгин думал было бежать, но пение сразу замолкло. Медвежата продолжали с любопытством вглядываться в лесную глушь, но интересного ничего не видели. Вот опять послышались голоса, – и вдруг, словно из земли, перед Топтыгиными выросли невиданные двуногие чудовища, каких-то ярких цветов: и белые, как снег; и красные, как кровь; и голубые, будто реки.
– Ай, батюшки, медведь! – отчаянно вскрикнула одна из девушек, натолкнувшись на старшую дочь Топтыгиной.
– Ай! ай!.. – завизжали девки и бросились бежать. В испуге одна швырнула плетушку прямо в морду Топтыгиной.
Три медвежонка вмиг очутились на деревьях. Но старшая сестра поступила не так благоразумно. Бросившись в ярости на плетушку, она, к удивлению своему, нашла в ней несколько груш... Одну грушу она съела, хотела приняться и за остальные, но в это время заметила, как удирают ее обидчицы. И вдруг Топтыгина задумала во что бы то ни стало догнать этих пестрых чудовищ. Ей любопытно было рассмотреть их поближе, и нравилось, что они так испугались ее. Топтыгина что есть духу погналась за девушками.
– Своротим вправо!.. Там поле! – кричали девушки, – авось народ попадется! – Но как они ни сворачивали, зверь не отставал от них ни на шаг.
Сидя на дереве, Мишук сразу заметил проделку сестрицы и пришел в неописанный восторг.
– Я побегу за нею! – рявкнул он старшему брату.
– Я те побегу! – зарычал старший, – мало мне побоев достается от матери.
Но Мишкино увлечение прошло, как скоро сестрица скрылась из виду. А она уже была на опушке леса... Девушки роняли плетушки; Топтыгина наскоро обнюхивала их и еще с большим азартом гналась за бегущими... Вот и поле. Видят девушки – толпа крестьян возвращается в деревню.
– Ау! ау!.. Медведь, ребята, медведь!..
– Где, где? – отозвались крестьяне.
– Сзади, сзади!.. Спасите!.. Моченьки нету! – голосили девки. – И еще одна плетушка, полная груш, упала прямо к ногам Топтыгиной. Но не успела ветреница и одной грушки отведать, – откуда ни возьмись, три собаки всем телом навалились на лакомку и с плаксивым лаем стали злостно теребить ее шубку... Топтыгина совсем растерялась... Она металась во все стороны, но псы не давали ей ходу. Наконец она уселась на задние лапы и, злобно мотая головой и щелкая челюстями, стала огрызаться направо и налево и свирепо отмахиваться от увертливых псов...
Тут с криком подбежали крестьяне.
– А-та-та-та!.. Держи его!.. Еще медвежонок!.. Бей, бей его!.. – Зачем бить? живьем возьмем!.. – Бешеный?.. Какой бешеный, вишь за грушами погнался!..
Храбро защищала Топтыгина свою свободу: она барахталась, кусалась, ревела, отбивалась лапами... Но знать от судьбы не уйдешь!.. Вмиг скрутили пленницу и в самом позорном виде потащили ее к деревне.
Только теперь поняла бедняжка, как необдуманно поступила она, погнавшись за такими хитрыми двуногими тварями.
– Неужели я лишусь свободы? – подумала Топтыгина. Эта мысль привела ее в ужас. Топтыгину тащили, – она упиралась, бросалась на людей, обхватывала их ноги, цеплялась за кусты, вырывала комья земли... наконец, рванулась вперед и, туго натянув веревку, опередила ненавистную ей толпу.
Вот и деревня.
– Это их жилище, – подумала пленница, – но не жить мне с ними! Нет, я хочу в лес, к своим!.. Хочу видеть мать! – И вновь заревела Топтыгина, словно заплакала, и что было силы рванулась к лесу. Любовь к матери воодушевила ее: она употребляла последние усилия.
– Вяжи ему ноги! – закричали крестьяне.
Но пленница вдруг решила, что всякое сопротивление напрасно. Его овладело уныние. «Нет, от них не уйдешь», – подумала она и сразу смирилась. Говор народа, крик мальчишек, собачий лай запугали ее окончательно. Обессиленная, она не сопротивлялась, когда ей связывали ноги.
Натешились вдоволь крестьяне и заперли Топтыгину в сарай. Там она забилась в угол и дрожала, как в лихорадке. Настала ночь, а пленница не спала; все ей думалось:
– Не видать мне родной матушки, не гулять мне с нею по лесу! И чего я, одурелая, погналась за теми тварями!
Недаром тосковала бедняжка: ее ожидала горькая участь.
X. Косолапая амазонка
Между тем старая Топтыгина всю ночь разнюхивала добычу. Она было опять подбиралась к лошадям, но издали почуяла человека, фыркнула и крупною рысью пустилась в лес. А Кузьма, стороживший лошадей, с нетерпением поджидал своего разорителя...
К рассвету медведица вышла с другой стороны леса, откуда виднелась деревушка. В деревушке было много коровок... Медведица приостановилась... Вот показалось стадо: коровы, весело мыча, шли к лесу. Медведица отступила в лесную чащу и залегла там в надежде подстеречь коровку. Что за счастье! Кажется, сама судьба сжалилась над голодным зверем: все стадо рассыпается по лесу, и один здоровенный бычище идет около самой Топтыгиной. Медведица пропускает его мимо, подкрадывается сзади... и в один миг у быка на спине... Бык шарахнулся в сторону, заревел и словно вихрь помчался к деревне, подымая тучу пыли... С опущенной головой, с глазами налитыми кровью, он был ужасен. Казалось, он летел по воздуху, не касаясь земли...
– Да он меня в деревню принесет! – испугалась Топтыгина, – вот будет горе! – И вдруг ею овладела неимоверная трусость. Она всячески старалась остановить скакуна, хваталась за встречные кусты и деревья, сжимала бедное животное своими лапами, с безумною злобою грызла его... но остановить разъяренного быка оказалось невозможно. Топтыгина растерялась. Положение ее было очень смешно: она жалела упустить свою добычу, а в то же время с поразительной быстротой сама стремилась к опасности; несколько секунд – и она влетит в деревню.
Смотрят крестьяне, и глазам своим не верят: во всю прыть летит бык, а верхом на нем сидит ошалелая, косолапая амазонка... Но тут медведица безумно заревела, как сноп свалилась на землю и, опозоренная, со всех ног припустилась к лесу. Не слыша земли под собою, она миновала поле, долго бежала лесом и, уже очутившись в густом ельнике, решилась отдохнуть.
– Экой здоровенный попался! – ворчала Топтыгина, еле переводя дух, – как еще в живых я осталась!.. Уж мне бы лучше корову выждать: с той бы я совладала... А детки-то чай проголодались?.. С чем я к ним приплетусь?
И с такими безутешными думами полубольная медведица вплоть до вечера пролежала в ельнике.
А в деревне такой гам, что и Боже мой! Все собрались поглядеть на израненного быка.
– Ай да Васька! – раздавалось в толпе, – вот так бык!.. Привез было к нам гостя из лесного правления!.. – Все ласкали бедного Ваську. Бык жалобно мычал. Он обливался кровью. На глазах его были слезы. Некоторые восклицали:
– Погоди, проклятый зверь, погоди до осени, – будет и на нашей улице праздник.
К вечеру Топтыгина оправилась и поспешила к деткам. «Вот и приду без гостинца», – думалось ей. Но к счастью медведица случайно набрела на волка, который уплетал теленка. Заметив страшного зверя, волк с визгом отбежал в сторону. А Топтыгина с чужой добычей, совсем довольная, приплелась к семейству.
Дети, сидя на дубе, лакомились желудями. Увидев мать, они с восторгом кинулись к ней навстречу.
– Вот и мясцо вам готово! – ласково приветствовала их мать, и, разумеется, о быке не заикнулась. Сели ужинать. Тут медведица спросила о старшей дочери. Дети рассказали, как было дело... Печаль матери была безгранична. Ее плачущий рев тоскливо разнесся по лесу, – и многие звери услышали, что мать оплакивает свое детище... Забыв усталость и голод, медведица бросилась на поиски дочери.
XI. Материнская месть
Как сумасшедшая металась Топтыгина по лесу, но следы дочери не попадались... Вдруг она остановилась... След был найден... И снова огласился лес отчаянным ревом... Потом все стихло; только слышался треск сучьев под могучими лапами медведицы. О, как она ужасна! бойтесь встретиться с нею! Она отомстит вам за своего ребенка... Изредка медведица останавливается, водит в воздухе носом, фырчит, – и вновь бежит, все бежит по одному направлению... Да, чутье не обмануло ее: она отыщет свою дочь, – и горе тому, кто вздумает ей поперечить при этом!.. Вот поле... Но что это медведица вдруг стала как вкопанная?.. Что она кружится на одном месте?.. Зачем роет землю?.. что так внимательно обнюхивает? – Здесь несомненные следы ее дочери... На этом месте терзали и мучили ее ребенка: вот клочья шерсти, перемешанные с шерстью собачьей... И злобно фыркнув, медведица понеслась к деревне... прямехонько к тому сараю, где была заключена ее несчастная дочь... Забыты все опасности: мать хочет видеть свое дитя.
В деревне тишина: все спят. Собачонка, заслышав шорох у сарая, с громким лаем бросилась было туда... но вмиг ощетинилась и, поджав хвост, стрелой кинулась к забору. Бродит Топтыгина вокруг сарая, обнюхивает каждый уголок, толкает двери, скребет когтями стены, и наконец взбирается на крышу. Ветхая крыша рухнула, – но не медвежонка увидела Топтыгина... Перед нею стояла тёлка, Буренушка. Бедняжка тряслась, как в лихорадке, и не знала, что ей делать... Вот на кого страшный зверь излил всю свою злобу... Перекусив горло телки, медведица одной лапой обхватила ее шею, другой ухватилась за балку потолка и протащила свою жертву в отверстие крыши. Долго крепилась собачонка, не вытерпела – тявкнула несколько раз... Глупая, зачем напомнила о себе! Медведица отыскала ее и тут же растерзала. Потом схватила телку и поволокла ее к лесу, ни мало не смущаясь общим лаем всех деревенских псов... Многие уже проснулись, но к счастью никто не попался навстречу разъяренному зверю.
Но куда же девалась пленница? ведь она была заперта в сарае? Да. Наутро ей бросили хлеба, но она не дотронулась до него. – Как бы с тоски не погибла! – заметили крестьяне, – лучше убить, а то мясо пропадет.
Но вдруг по деревне загудел барабан.
– Медведей, медведей ведут! – радостно закричали мальчишки. Все побежали за околицу...
Когда кончилось представление, начался торг: вожаки купили молодую Топтыгину за пять рублей, – и началась горемычная жизнь для бедной пленницы.
XII. Переполох в деревне
Светало. Дружный собачий лай оглашал сонную деревню: некоторые злобные псы налаялись до хрипоты. Уже многие хозяева обходили дворы свои, чуя что-то недоброе. Там и сям заскрипели ворота; кое-где перекликались соседи; мало-помалу деревня оживилась.
Наутро разрешилась загадка. Все, и старый, и малый, спешили на край деревни, к Степанову двору, чтоб поглазеть на сарай, из которого ночью пропала корова. В толпе спорили о том, кто утащил Буренушку: одни говорили – вор; другие – зверь; а некоторые завели речь и о лешем.
– Кабы вор, – зачем ему крышу ломать? Он и в дверь корову-то выведет! Да и кто, кроме зверя, собачонку-то зарезал: вишь, сколько крови из нее вытекло! И сарай весь залит кровью
– Нет, это был не зверь: доселе, Бог милостив, зверь не озорничал так.
– И выходит, был леший! – заключали глупые бабы: вон по дороге и следы его видны: как раз человечья нога, да только с когтями.
Заговорил один старик. Все смолкли.
– Про вора вы напрасно молвите, люди честные, – начал старик, – вора тут не было. А про лешего небось, слышали, что сказывал батюшка в церкви? Ну то-то же!.. Это приходила медведица: дитя свое отыскивала. У Степана в сарае медвежонка мы заперли: к нему зверь и пришел; его и наказал за свое детище. А следы, что на дороге видели, то следы медведицы; потому узкие следы; а у медведя след широкий. Вот кто Буренушку унес, а не вор, и не леший. Как медвежонка продали – не следовало было корову в этот сарай ставить.
Толпа заговорила в один голос: – Спасибо, дедушка, что научил! – Не на чем, родимые, – отвечал старик, – а вот деньги, что за медвежонка взяли, их Степану надо бы отдать.
– Степану отдать, Степану отдать, – подхватила толпа, – Степан за всех потерпел!
– А что, дедушка, – спросил один парень, – медведица еще придет?
– Кто ее знает: может и придет, – ответил дед.
– Ночью сторожить надо! – раздалось в толпе.
– Зверь этот лютый, – прибавил дед, – за свое детище не помилует.
Толпа постепенно разошлась. Всем было жутко: кто боялся за свою корову, кто за лошадь, кто за овец. Ночью половина деревни не ложилась спать, поджидая зверя. Но зверь не пришел.
В эту ночь сытое семейство Топтыгиных забавлялось в лесу невинным делом: лакомилось медом. Известно, что в Пермской губернии многие крестьяне, особенно башкиры, занимаются пчеловодством; они не только содержат ульи при своих жилищах, но имеют еще в лесах диких пчел, которые живут в дуплистых деревьях; такое дуплистое дерево называется борть, а пчелы, живущие в нем – бортевыми пчелами. Этих бортевых ульев у иного башкира бывает до тысячи. И вот Топтыгины разыскали такие борти, залезли на них и объедались медом.
С неделю крестьяне напрасно поджидали Топтыгину, а сарайчик Степана с месяц простоял пустым: вот в каком страхе держала медведица целую деревню.
XIII. Пора в берлогу
Что ни день, то крестьянам горе: у того медведь овес помял, у другого – мед из улья вытаскал; там корову зарезал, тут лошадь утащил... При всякой встрече все те же речи.
Зато к зиме Топтыгины так растолстели, что еле волочили ноги. Мишук стал вылитый чурбан.
Мать устроила новую берлогу, гораздо лучше и обширнее прежней, – чистую пещеру. Топтыгины подолгу отдыхали в ней, и вообще не удалялись от берлоги. Разве мать захочет поживиться коровкой или лошадкой.
Медведица нередко говорила детям: «Далеко не ходите, детки; неравно снег выпадет, а по снегу оставлять след не годится».
А между тем уже осенний ветер завывал по лесу; перепадали частые дожди; по утрам порядочно морозило; птички давно улетели в теплые края, и слышалось лишь карканье ворон и галок. Затих и опустел суровый лес.
Давно уже Топтыгиных клонит ко сну; мать запрещает детям много есть, велит побольше пить... И вот, в середине октября, войдя с детьми в берлогу, Топтыгина сказала:
– Ну, деточки, довольно погуляли – пора и отдохнуть. Теперь не скоро вылезем отсюда: пролежим до той поры, пока весенние ручейки нас не подмоют. Вы, малые, ложитесь там, у задней стенки; ты, старший, перед ними; а я залягу тут, у входа.
Топтыгина закупорила вход в берлогу, и вся семья, довольная уютностью своего домика, приятно задремала. В берлоге тепло. Ее всю занесло снегом; только вход от теплого дыхания зверей выделялся желтым пятном на зимнем покрове.
ХІV. Не все коту масленица
В первых числах ноября, ранним утром, четыре крестьянина вышли из деревни и направились к лесу. С ними были ружья, рогатины, острые ножи, веревки, лыжи и другие охотничьи принадлежности. Всякий бы догадался, что крестьяне эти идут на охоту, и непременно на крупного зверя. Один охотник вел на привязи двух собачонок острорылых, мохнатых, со стоячими ушами, с большими мохнатыми хвостами, некрасивых и тощих – сущих дворняжек. Но это шли не дворняжки. Это были послушные, зоркие и чуткие лайки, истинные подруги и помощницы крестьянина-охотника.
– Не ошибся ли, Фома? – заговорил один из охотников, – точно ли ты видел берлогу?
– Ошибся! – с неудовольствием проворчал Фома, – словно мне впервые берлогу-то разыскивать!
– А медвежьего следа не видел? – спросил третий охотник.
– Как же я медвежий след увижу, когда его нет? Медведь залег до снегу, откуда ж быть следу? Прочего зверя следов пропасть, а медвежьего нет. Часов шесть я по лесу на лыжах-то рыскал: в одном овраге смотрю – шагов на двести вокруг ни единого следочка не видать. Ну, думаю, коли звери здесь не ходят, значит, берлога близко. Стал я кружить на лыжах, высматривать, глядь – на снегу желтое пятно, и пар валит; а кругом и деревья, и кусты – все желтым инеем заволокло... Осмотрелся я, заприметил место и стал тихонько уходить: как бы, думаю, зверя не спугнуть?
– Теперь не скоро его спугнешь – облежался, – заметил один охотник.
– Теперь облежался, – сказал Фома, – три недели прошло, как я берлогу-то нашел.
– Какова-то охота будет? – говорили крестьяне, – помог бы Николай угодник, хоть маленько бы поправиться от летнего разорения; уж так разбойничал зверь, что и говорить нечего».
– Бог милостив! Авось не с пустыми руками вернемся.
Так мечтали охотники. А между тем дорога становилась все затруднительнее: даже собаки с головой проваливались в глубокий снег. Охотники надели на ноги лыжи. Вот он лес, – тихий, угрюмый, неприветливый.
– Далече ли? – спросили крестьяне Фому.
– Версты две с половиной, – ответил Фома и повел товарищей к берлоге.
Лес становился все гуще и гуще; скоро началась непролазная глушь.
– Вон, братцы, берлога, – прошептал Фома, останавливаясь около оврага. Все взглянули в одну сторону: сомненья не было, – берлога виднелась шагах в тридцати. Крестьяне сняли шапки, перекрестились и принялись за работу с соблюдением глубочайшей тишины. Они приблизились к берлоге еще шагов на десять; затем расположились кругом; выбрали удобные места: кто за елкой, кто за кустом; один даже срезал большой сук и укрепил его перед собою; сняли свои лыжи; примяли снег, чтоб крепче стоять на ногах; приготовили ружья; переглянулись и спустили собак.
Жучка и Шарик побрели в середину круга как-то нехотя; они постоянно проваливались в сугробах, так что из-под снега только виднелись их острые морды да крючковатые хвосты. Вот собаки обнюхали один бугор, потом другой, подбежали к третьему – и вдруг ощетинились, поджали хвосты и громко залаяли – нет, не залаяли, а словно застонали. Охотники замерли на месте; их взгляды уставились в одну точку.
Собаки свирепели все более и более... Уже минут пять без перерыва они заливались и захлебывались от ярости; но медведь не показывался. На собачий лай зверь отвечал сердитым ревом; изредка он высовывал свою страшную лапу, стараясь захватить дерзкую собачонку, которая осмелилась тревожить его покой; но опытные собаки зорко следили за движениями зверя и увертывались ловко. Вдруг из берлоги показалась морда медведя и быстро скрылась. Очевидно, зверь ленился встать и жалел расстаться с належанным местечком. Томительное ожидание надоело охотникам. Один из них швырнул сухой сук и попал им прямо в лаз; собаки с испугом отскочили, но затем принялись лаять еще злобнее. Крестьяне стали покрикивать, а медведя все нет да нет. Вот один храбрец подкрался к самой берлоге и, ткнув в нее рогатиной, стремительно отскочил в сторону.
– Берегись! – воскликнул Фома. И в ту же секунду, с изумительной быстротой, из берлоги выскочил огромный бурый медведь. Отряхнувшись, он ринулся на собак; собаки ловко извернулись и снова осадили зверя. Раздался выстрел.
XV. Опасность
Зверь повернул голову, прижал уши, оскалил зубы и смело бросился на стрелявшего. Новый выстрел. Кровь брызнула из передней лапы медведя. Он заревел, стал на дыбы и с остервенением пошел на охотника.
– Спаси, Господи! – прошептал крестьянин, хватаясь за рогатину, – ведь это медведица! И в живых не останешься!
– Знать медведица, коли пошла на человека, – решили охотники, – медведь бы убежал. Верно в берлоге дети. Помоги, Господи, несчастному Кузьме!
Такие мысли пробегали в головах охотников; но стрелять они не решались, боясь убить Кузьму.
Сильным ударом лапы медведица переломила рогатину... Кузьма растерялся, бросился бежать, споткнулся и упал... В один прыжок медведица очутилась на нем, с неимоверной силой придавила его к земле и своей страшною пастью впилась в его руку. Собаки тормошили медведицу, но она не покидала Кузьму. Несчастный был на волос от смерти. Первый Фома, за ним остальные двое побежали на помощь товарищу: один выстрелил в голову зверя, другой ударил его топором... Медведица рявкнула, перевалилась на спину и умерла. Кузьма лежал плашмя без всякого движения. Он залит был кровью медведицы.
– Неужто умер? – произнес Фома, глядя на своего несчастного товарища.
– С чего бы умереть? – возразили другие, – так, обмер маленько.
Кузьма шевельнулся и застонал: – Ох, родимые, тяжко! – Его подняли на ноги. Он осмотрелся, пришел в себя, перекрестился и стал благодарить товарищей:
– Спасибо, братцы, что в беде не покинули!
– Как можно, Кузьма, своего брата покинуть? – заговорили крестьяне, – ты для чего побежал? перед этим зверем бежать не годится. Лучше бы крикнул, али ножом оборонялся... Кое место больно-то?
– Рука, братцы, болит, да не очень; знать полушубок помог, – отвечал Кузьма.
Все это время Жучка и Шарик то с остервенением трепали шкуру убитого зверя, то с жадностью подлизывали кровь его.
Вдруг Фома бросился к лыжам и закричал: Пестун выскочил, ребята! Не зевай! – Пестун, пестун! – подхватили охотники. – Шарик!.. Жучка! Ату! ату! ату его!
ХVI. Трудно в свете жить сиротинушке
Пестуном называют большого медвежонка, потому что он пестует, т. е. нянчит маленьких медвежат, которых зовут лончаками.
Пестун долго не решался высунуть нос из берлоги. Мать, уходя, приказала ему не выглядывать. Кроме того лай собак, крики людей, стрельба – до того напугали медвежонка, что он прижался к стене и сидел ни жив, ни мертв. Но мать не возвращалась; наступила тишина – и он решился одним глазком выглянуть на свет. Увидев страшных незнакомцев, он опрометью выскочил из берлоги... Поднялась тревога. Шарик сразу заметил беглеца и пустился в погоню; но Жучка бросилась к берлоге.
Охотники спешно надевали лыжи и заряжали ружья. Через минуту Фома с одним товарищем уже гнался за медвежонком. Третий охотник замешкался у берлоги, напрасно стараясь отогнать Жучку: собака не слушалась и как безумная тявкала у лаза.
А пестун уходил с удивительной быстротой, хотя с каждым прыжком глубоко проваливался в снег. Прокладывая за собой канаву, он облегчал путь Шарику. Не отставая ни на шаг, собака с громким, неугомонным лаем преследовала медвежонка, хватала его за ляжки и наконец приостановила на минуту: пестун обернулся и стал отбиваться от несносного пса. В эту минуту Фома выстрелил. Медвежонок перекувыркнулся и поскакал снова. Изо всех сил старался он спутать свой след, сворачивал то вправо, то влево, – словом, колесил, как запущенный кубарь. Но Шарик не покидал его ни на минуту, ловко увертываясь от ударов. Изредка пестун останавливался, чтоб перевести дух и при этом злобно отбивался от храброй собаки. Одной лапой он загребал снег и примачивал рану в боку, которую жгло, как в огне. После коротких отдыхов он вновь припускался бежать. Охотники давно уже отстали: догнать медведя было не легко. Вот беглец забежал в непроходимую чащу и, к удивлению Шарика, взлез там на дерево. «Ну, – подумал бедняк, – теперь меня не найдут.» Но несносная собака, что есть мочи лаяла: «вот, вот он!.. здесь, здесь, здесь... на кедре, на кедре!..» Смотрит пестун, – а там уже бегут те страшилища, что так громко стучат из своих палок. Как чурбан грохнулся несчастный с дерева и снова бежать... Однако силы оставляли его: он уже не уходил вперед, кружил почти на месте и постоянно кашлял. Раздраженный, он кинулся на собаку и с остервенением стал мять ее своими могучими лапами. Шарик завизжал отчаянно. Тут подоспел Фома. Завидев его, пестун оставил свою жертву и свирепо бросился на охотника. Раздался выстрел – и зверь уж ничего не слышал, не видел и не чувствовал: как сноп, повалился он на снег.
– Проморил таки нас! – сказал Фоме товарищ, подходя к медвежонку, – почитай, верст пятнадцать мы его провожали!
– Проморил-то не беда – собаку заломал окаянный: вишь, Шарик валяется! – грустно возразил Фома.
XVII. Почему упрямилась Жучка
Охотник выбился из сил, стараясь заставить Жучку следовать за собою: собака упрямилась и продолжала лаять у берлоги.
– Не чует ли она в берлоге лончака? – закричал Кузьма товарищу. Он все время сидел на убитой медведице и прикладывал снег к больной руке. – Загляни-ка, Павлуха, в берлогу, – прибавил он, – ведь не даром собака лает». Кузьма говорил правду. Павлуха послушался его и увидел забавную картину: два медвежонка уткнулись мордами в угол берлоги и от страху, казалось, думали только о том, как бы провалиться сквозь землю.
– Глянь-ка, глянь-ка, Кузьма! – закричал Павел, – вот так потеха: парочка лежит, только хвостики трясутся!
Кузьма приблизился к берлоге, чтоб взглянуть на медвежат. «Тяни их, Жучка, за хвосты?» – смеясь крикнул он собаке. Жучка радовалась, что охотники поняли, о чем она хлопотала, и лаяла еще азартнее, но войти в берлогу не решалась.
– Застрелить их что ли? – спросил Павел.
– Зачем? – возразил Кузьма, – мы их живьем возьмем.
Охотники без труда вытащили медвежат: бедняжки до того перетрусили, что сдались почти без сопротивления. Это были младшие Топтыгины – Мишук и его сестрица. Им связали ноги и рты и бросили их подле убитой матери. Кузьма по-прежнему уселся на медведице; Павел поместился около него; товарищи закурили трубки и разговорились о будущих барышах.
– Бог милостив, охота на почине хороша! – начал Кузьма.
– На что лучше! – отвечал Павел.
– Шкура-то у медведицы больно рыжевата. Когда бы почернее была, дорого б можно продать.
– Она хоть и рыжевата, зато велика: в ней больше сажени будет.
– Ежели пестуна убьют, то за обе шкуры рублей двадцать пять выручим.
– Выручим беспременно. Да за сало рублей двадцать в аптеке дадут; потому с обоих можно снять сала пудов пять.
– Пожалуй больше снимем, уж очень жирен зверь: одна медведица вытянет двадцать пудов слишком, да в пестуне пудов шесть будет.
– Может статься и мясо кому выгодно на окорока продадим: считай хоть рублей на девять.
– Да. Всего-то будет пятьдесят четыре рубля. Ну, два рубля в церковь пожертвуем, – по тринадцати рублей на брата придется.
Так, покуривая, мечтали охотники. Но когда зашла речь о живых медвежатах, – произошло несогласие: в самом деле, кому их откармливать? и как потом рассчитаться? Павел советовал теперь же убить медвежат, а выручку разделить; Кузьма же доказывал, что убивать таких медвежат не выгодно, что выручка будет пустая, а уж лучше свезти их в город, на базар: если на охотника нападешь – дорого даст.
А пленные медвежата слушали, как ворчат эти чудовища, и со страху дрожмя дрожали. Напрасно старались они понять, что с ними происходит. Они не сознавали, что мать их убита, а потому испуганно поглядывали на Кузьму и думали: «что это за урод уселся на матери? и почему мама не шевелится, отчего не столкнет его с себя? Неужели ей приятно лежать так? Ни обнюхает нас, ни полижет, ровно мы ей чужие». Мишук глубоко вздохнул. Павел пустил струю дыму прямо в нос медвежонку: бедняга зафыркал, зачихал и закашлял. «Что, Мишутка, видно матушка табаком тебя не потчевала?» – сострил Кузьма.
А мать и не глянет на свое детище – лежит себе, не шелохнется, словно боится потревожить чудовище, что сидит на ней. Мишук прослезился. «Верно мама разлюбила меня», – подумал сиротка, – «верно этих, страшных, она больше любит». А тут еще Жучка, злодейка, не дает покою несчастным: лает без умолку над самым ухом, мечется вокруг как угорелая, лижет их, нюхает... затормошила бедняжек в конец.
– Вот и наши идут, – сказал Павел, – пестуна волокут. Ай да Шарик: один одолел! Жучка! будет тебе медвежат-то обнюхивать, пойдем!
XVIII. Базар
Зимняя ночь. По всем дорогам из окрестных деревень к городу тянутся обозы. Сани со скрипом легко скользят по зимней гладкой дорожке. Лошадки прилежно везут, предвидя скорую кормежку; крестьяне попрыгивают около саней, весело похлопывая рукавицами. Радостно у крестьянина на душе: кончились полевые работы; хлеб уже смолотили; сделали запасы на зиму и вот излишек везут горожанам на продажу; продадут хлеб, будут в руках деньги: можно и по хозяйству кое-что справить, и свадебку сыграть, пивца наварить, отдохнуть и повеселиться.
– Ну, милая, не далече! – ободряет крестьянин лошадку, и та прибавляет шагу.
Едва светает, а на городской базарной площади уже заметно оживление. Крестьяне устанавливают в ряд своих лошадок, прикрывают их рогожами, привешивают им мешки с овсом и спешат на постоялый двор отогреться; торговки выносят свои столики и раскладывают на них разные разности; загремели тяжелые замки городских лавок; заскрипели ворота; ударил колокол к заутрене... Перекрестились православные и стали поджидать покупателей.
Утро. Базар в разгаре. Шум и суетня. Восклицания продавцов и торговок, лошадиное ржание, унылое пение нищих, – все сливается в общий гул. Возле одного крестьянина собралась оживленная толпа: слышались смех и шутки. Еще бы! Это был Фома с двумя медвежатами. Какой-нибудь шутник толкнет Мишутку сапогом, – Мишук заревет, быстро обернется, толпа отхлынет и хохочет. Обиженный зверек со злостью начинает сосать свою лапу. Снова толчок, снова огрызается Мишук, новый взрыв хохота.
– Будет вам потешаться-то! – крикнет Фома на толпу, а сам высматривает, – не видать ли хорошего покупателя. А покупателя нет как нет. «Поводырям продать что ли?» – проворчал Фома. – Поводыри, земляк, у заставы, – крикнул кто-то из толпы.
Но судьба сжалилась над Топтыгиными. К толпе подошел офицер. «Продаешь медвежат?» – спросил он Фому. – «Продаю, ваше благородие», – весело ответил Фома. – «А что за одного возьмешь?» – «Десять рублей!» – «Дорого. Да они у тебя какие-то сонные?» – «Не осмотрелись еще, ваше благородие: только вчера из берлоги вынули.»
Топтыгины точно казались не веселы. В течение суток они испытали столько различных впечатлений, столько натерпелись горя и страху, что теперь смотрели совершенно измученными, забитыми. Еще вчера они покойно дремали в своей уютной берлоге, а вот уже сегодня находятся среди шумного базара, окруженные множеством страшных незнакомцев, оглушаемые их криком и звоном колоколов. Все для них незнакомо, все непонятно, все их пугает. Вчера связанных притащили их в деревню; откуда ни возьмись, собрались мальчишки: один, другой, третий... словно из земли вырастают... да такой крик подняли, что Топтыгины едва не умерли от страху.
– Зачем мама так безжалостно покинула нас? Куда девался старший брат? Долго ли нам терпеть такую муку?..
Едва развязали медвежат, как они оба подошли к трупу матери и стали теребить его и жалобно стонать, как бы говоря: матушка, матушка, что ты с нами сделала? «Ведь плачут пострелы!» – заметила при этом какая-то баба. Потом пленников пустили в подполье. Там забились они в угол и дрожали от страху, пока не заснули. Во сне и бедняк бывает богатым. Так и Топтыгиным снилось, что они лежат в берлоге, что с ними мать и братец, что всем так хорошо и уютно... Вдруг что-то стукнуло в лесу... Мишук хотел прижаться к маме и... проснулся... Нет ни берлоги, ни мамы, ни братца. Опять послышались голоса страшных чудовищ. Топтыгиных берут, куда-то тащат, потом во что-то укладывают... Вот чудовище крикнуло, и вдруг, о ужас! все предметы, и дома, и деревья, и люди – все, все летит, несется прямо на медвежат... С испугу им захватило дух. Бедняжки не догадывались, что их везет лошадь, что они несутся вперед, а все предметы стоят неподвижно. Всю дорогу они метались, как угорелые. Но когда налетела на них вся базарная площадь, они разразились таким страшным ревом, что всполошили весь базар. Фома поскорее прикрыл крикунов рогожею и тем угомонил их немного. Однако товар надо лицом показать. Пришлось снять рогожу. Тут стали дразнить медвежат и этим пугали их все больше и больше. Не мудрено, что Топтыгины казались совсем обессиленными...
Но офицер, заговоривший с Фомою, чрезвычайно любил всех животных; а потому, поторговавшись, купил-таки Мишутку за восемь рублей. При громких криках неугомонных мальчишек, солдат повел зверька на офицерскую квартиру.
XIX. Первое знакомство
Маленький пленник не желал следовать за солдатом; упирался, бросался на толпу, хватал солдата за ноги; но упрямца бесцеремонно тащили по снегу. Офицер приказал ввести его в комнаты. Едва Топтыгин переступил порог, как на него кинулась с громким лаем офицерская собака Альма, и до того перепугала несчастного, что тот прижался к порогу и не двигался с места. Альму увели; Мишутку стащили в кабинет. Бедняга растянулся на ковре и закрыл свою головушку передними лапами, точно ему и на белый свет смотреть надоело. Офицер запер двери и остался наедине со своим пленником. Все стихло. Но в ушах медвежонка еще гудел базарный шум. Офицер хотел, чтобы Мишук успокоился и не дичился. Он положил кусок хлеба подле морды зверька, а сам уселся в стороне. – Чует Мишук, что пахнет чем-то вкусным; но знает и то, что по близости сидит чудовище, – и лежит трус, не шевелится. Офицер уходит в другую комнату и оттуда наблюдает за медвежонком. Вот осмотрелся Топтыгин, видит – «страшного» нет; глянул направо, налево, обнюхал кусочек, сгреб его лапой и скушал. Вкусно. Подобрал все крошечки и облизнулся. Захотел пройтись, что-то дернуло его за шею; Мишук рявкнул, оглянулся – нет никого: только веревка ошейника привязана к двери. Глядь, а «чудовище» тут как тут. Снова конфузится Топтыгин, голову опускает, лапами закрывается, не хочет и взглянуть на своего хозяина. Но чует, – тем же вкусным пахнет; огляделся – нет никого: скушал. Очень вкусно. А офицер уж тут, и протягивает Мишке еще такой кусочек. Растерялся Мишук: пятился трусишка, пятился и уперся в самую стену. А гостинец-то возле лапы лежит: хотел было дикарь опять закрыться, да как опустил морду – и не вытерпел: съел кусочек – только слюнки потекли: смотрит, а «страшный»-то ему еще кусочек бросил. Скушал Мишутка. А вон еще лежит ломтик, только не близко: шага два надо сделать. Призадумался Топтыгин, однако подошел к куску и проглотил его. А добрый хозяин знай подбрасывает куски: Мишка собирал да собирал их и незаметно очутился около самого «чудовища». Думал было отскочить, но в ту же минуту получил, да уж не кусочек, а целый кусище хлеба. Ну как же тут уйти?.. Улегся Топтыгин у ног своего хозяина и, забыв обо всем, погрузился в приятное занятие: сначала ловко выел мякиш, потом принялся за корки.
– Ермолай! – кликнул офицер денщика.
Этот неожиданный возглас до того испугал Мишутку, что он, как бешеный, шарахнулся под диван.
XX. Мишук получат квартиру и знакомится со своим соседом
Вошел денщик.
– Там, рядом с кухней, – сказал офицер, – есть светлая каморка. Ты, Ермолай, ее вычисти, усыпь песком, настели соломы, – и вот тебе Мишук соседом будет.
– Слушаю, ваше благородие, – ответил Ермолай, улыбаясь.
– Поставь ему туда воды, – продолжал офицер, – да только так, чтобы он не мог опрокинуть. И смотри, Ермолай, не смей его бить! – заключил офицер.
– Зачем его бить, ваше благородие? мы с ним подружимся.
Когда Ермолай все уладил, ему стоило большого труда увести Топтыгина на новую квартиру: Мишук начинал чувствовать привязанность к своему хозяину и решительно не желал уходить из кабинета. Однако Ермолай стащил упрямца в каморку и запер его там.
Вечерело. Офицер отправился в гости. Ермолай зажег в кухне огарок и уселся пить чай. Долго Мишук копошился в своем помещении. Перерывая солому, он попал лапою в таз и стал пить.
– Словно собака лакает, – заметил Ермолай. Но медвежонок не слыхал его слов и с жадностью продолжал лакать, пока не опустошил целый таз.
– Всю покончил! Вот так пьет! – удивился Ермолай. Мишук грузно повалился на солому и, глухо вереща, засосал свою лапу.
– Ишь ты, как барабанит! – усмехнулся Ермолай. Топтыгин примолк, потом жалобно застонал, поднялся и стал царапаться в дверь. Денщик осторожно откинул крючок у каморки, а сам уселся на прежнее место. Скребнул еще Мишук, – дверь каморки неожиданно отворилась, и Топтыгин очутился как раз перед Ермолаем.
– Здорово, Михайло Потапыч, – сказал денщик, – давно не видались. Не желаете ли чайком побаловать?
Топтыгин, видимо, сконфузился: попятился назад, уселся на соломе и стал внимательно разглядывать соседа. Ермолаю пришла охота повозиться с Мишкой. Взял он тряпочку, намотал ее на конец палки, развел на блюдечке сладкую воду и, смочив ею тряпку, ткнул палку прямо в морду медвежонку. Топтыгин с яростью схватил палку, но... вдруг аппетитно зачмокал и с жадностью стал высасывать тряпку.
– Видишь, Мишка, какую я тебе конфетку приготовил! – сказал Ермолай, – а ты осерчал! – Мишук верещал от удовольствия. – Пососи, друг, пососи: я тебе еще намочу. – Но едва Ермолай шевельнул палку, как Топтыгин с ревом кинулся на него и, не будь привязан медвежонок, денщику сильно досталось бы.
– Бить тебя, Мишук, не приказано, – сказал Ермолай, – а то бы я попотчевал тебя этой палкою, только с другого конца! Ну, по первому разу, – строгий выговор!
Медвежонок с досады сосал свою лапу.
– На! – сказал Ермолай, протянув Топтыгину конфетку, – досасывай остальное! – Пока медвежонок лакомился, денщик делал ему наставления. – Лучше ссориться не будем, Потапыч: соседям надо жить мирно. Хоть лапка твоя и хороша, да ведь и я кочергой могу вытянуть: хорошего-то будет мало. Ну-ка, отдай палочку, – заключил Ермолай. Мишук опять остервенился. – Вот теперь уж не прогневайся, снисхождения не будет! По второму разу: одиночное заключение на хлебе и воде! – Денщик захлопнул каморку и прибавил, – сиди, дурак, когда хорошего обхождения не понимаешь! – Этого Топтыгин никак не ожидал. Сначала он жалобно застонал, как бы прося извинения в своем невежестве; потом стал толкать дверь каморки; стонал все громче и громче и наконец поднял самый неприличный рев. Ему хотелось видеть своего соседа. Не то, чтоб он полюбил денщика, нет: Ермолай остался для Топтыгина все-таки чудовищем; но медвежонок смекнул, что около этих чудовищ всегда, есть что-нибудь вкусное, съедобное... Напрасно шумел Топтыгин: снисхождения не было. Улегся бедняга на солому, пососал слегка свою лапу, повздыхал и скоро уснул богатырским сном.
XXI. Альма и Топтыгин
Ночь провел Топтыгин очень беспокойно своим ревом разбудил Ермолая чуть свет, и вообще оказался довольно неприятным соседом. Утром его пригласили в кабинет. Альма встретила медвежонка конечно недружелюбно; но ей приказали замолчать, и она, едва сдерживая свое негодование, улеглась под диван. Что же она видит? Этого неуклюжего увальня Ермолай подводит к чайному столу... Хозяин дает уроду один кусок сахара, потом другой, третий... и при этом так нежно, так бережно гладит его, так дружелюбно разговаривает с ним... «Каково?» – подумала Альма, – «этакой ласки и я сроду не видывала!» Умная собака стала ревновать: она тотчас догадалась, что косолапый урод – новый друг ее хозяина. Не смея тронуться с места, она лишь глубоко вздохнула.
– Альма-то завидует, ваше благородие, – заметил Ермолай.
– Альмочка! – сказал офицер, – Альмочка! что вы вздыхаете? Пожалуйте сюда! Пожалуйте, пожалуйте!
Собака жалобно взвизгнула, постучала хвостом об пол, конфузливо съежилась и, крадучись, приблизилась к своему хозяину. Мишук зафыркал. – «Альмочка завидует! Альмочка завидует!» – повторял офицер. А собака, извиваясь змейкой, все чаще и чаще виляла хвостом, выворачивалась на разные лады перед хозяином, бросалась к нему на шею, потом кидалась к Ермолаю и вдруг пришла в неописанный восторг... Радостно тявкнув и неожиданно лизнув в самый нос удивленного Мишутку, она заколесила вокруг него, как заведенный волчок. Оторопелый медвежонок запыхтел, поднялся на дыбы и стал подпрыгивать и вертеться на одном месте, стараясь не терять из виду сумасшедшую незнакомку.
– Экая вертлявая! – думал растерявшийся Топтыгин, не успевая следить за резвой собачонкой. Вдруг Альма кокетливо уселась напротив него. Мишук навострил уши и уставился на собаку.
– Дай-ка я ее обнюхаю, – подумал он. И опустив голову, медвежонок стал медленно подходить к незнакомке. Тут Альма снова закружилась, как угорелая.
– Заигрывает плутовка, – рассуждает Топтыгин, попрыгивая на месте. А самого так и подмывает повозиться с собачонкой.
– Постой-ка, вертлявая, уж я тебя поймаю, – только присядь маленько! – Но Альма верно догадалась о его замыслах: она, как стрела, вылетела в другую комнату. Не вытерпел Мишук, рванулся, и ну за ней. Пошла кутерьма на весь дом. Собака сразу поняла, что на стороне урода – сила, на ее стороне – ловкость: и дурачила она Топтыгина безжалостно. На скользком полу неуклюжий Мишук то и дело катался, как чурбан: а пока успевал подняться, собачонка трепала его на все лады. Возня продолжалась часа два. Мишук и Альма сразу сошлись на короткую ногу: они возились по целым дням, ели из одной чашки и даже засыпали рядом. Альма перестала завидовать Топтыгину: она заметила, что офицер любит ее по-прежнему и была всегда очень ласкова с медвежонком; Мишук перестал бояться бессильной собачонки, а на ласки отвечал ласкою же, но разумеется, неуклюже, по-медвежьи. Словом, Альма и Топтыгин стали примерными друзьями.
XXII. Мишук чувствует себя как дома
С каждым днем Топтыгин все более и более привыкал к новой жизни. Он не сознавал, что находится в плену: у него был теплый угол с мягкою постелью; его кормили, ласкали, порою забавлялись с ним. Чего же больше? И вот бедный сирота всем сердцем полюбил своего хозяина и Ермолая. Он бегал за ними, как собака, и как собака, тосковал без них. Когда его запирали в каморку, он от скуки до того ревел и бился, что Ермолай решительно не мог утерпеть, чтоб не выпустить беднягу из заключения. Мишук обыкновенно покойно усаживался и внимательно следил за всеми действиями Ермолая. Если денщик бывал свободен, то начинал возиться с медвежонком. Мишук особенно любил бороться, при чем входил в такой азарт, что нередко Ермолаю приходилось плохо. Топтыгин почему-то не любил красный шарф Ермолая, и стоило денщику показать этот шарф, как медвежонок нападал на соседа, и начиналась отчаянная борьба.
Есть пословица: с кем поживешь, у того и переймешь. И действительно, в короткое время Топтыгин выучился многому. Он очень скоро, без всякого учения, стал отворять за ручку припертые двери; приучился к опрятности и выходил, когда следует, из дому; после нескольких уроков научился вертеть колесо колодца и доставать оттуда воду; стал таскать в кухню дрова и другие тяжести, и даже любил эту работу; словом – Мишук был не только приятным, но и полезным сожителем. Зато и баловали его не в меру. Ежедневно, утром и вечером, Топтыгина приглашали в кабинет к чайному столу и угощали сахаром; в середине дня подавали ему огромную миску вкусных помоев; после обеда, в виде десерта, он получал кусок черного хлеба, намазанный медом, на ужин – изрядную порцию свежих овощей, по преимуществу моркови. Кроме того Мишук помогал кушать Альме, присоединялся и к Ермолаю, чтоб разделить его трапезу. Когда Ермолай начинал свой обед или ужин, то медвежонок обыкновенно садился на задние лапы, а передними бил себя по губам до тех пор, пока денщик не указывал соседу на табуретку; но такой чести Мишук добивался не сразу... Сидит, бывало, Ермолай, будто и не видит проделку Топтыгина. И застонет Мишук – жалобно, жалобно...
– Ах ты хитрая тварь! – скажет денщик и хлопнет рукой по табуретке. Тут медвежонок торопливо занимает предложенное место, усаживается половчее, – и товарищи кушают за одним столом... Но выдавались Топтыгину и тяжелые дни.
XXIII. За кем вины не сыщешь?
Однажды офицера не было дома; Ермолай также зачем-то ушел вместе с Альмой, и Топтыгин, запертый в каморке, ревел и бился как сумасшедший. Наконец дверь отворяется, Мишук получает свободу. Обойдя наскоро все комнаты и не встретив никого, он возвращается в кухню и начинает осматривать ее во всех подробностях. Видит: лежит на полке целая коврига хлеба. Взбирается Топтыгин на скамейку, сбрасывает с полки хлеб, разбивает при этом несколько тарелок, опрокидывает себе на голову большую банку с огуречным рассолом, пугается неожиданного треску и сломя голову летит в свою конуру... Все стихло... Топтыгин ободряется, снова вылезает из каморки и начинает в тишине уплетать хлеб... Кончил. Хочется Мишутке попить: подходит он к ведру, желает скинуть крышку и – по своей неловкости – всю воду разливает на пол. «Эко горе», – думает Топтыгин, – «не удалось напиться!» Однако осматривается кругом: где бы еще похозяйничать? Тащит из-под кровати Ермолая какой-то ящик. В ящике – морковь. Отведал Мишка морковки. После хлеба не понравилась. «Нет ли там внизу чего хорошего?» – думает Мишук. И давай выгребать морковь на пол. Опорожнил ящик, но хорошего в нем ничего не нашел. Переходит Топтыгин в офицерские покои. Столовая: на столе бутылка вина. Сгреб ее Топтыгин на пол, она и покатилась... Интересно. Начинает Мишутка катать бутылку то сюда, то туда, то так, то этак... Выскакивает пробка, и вино выливается на пол. Отведал Мишка вино – чуть язык не проглотил: уж так-то хорошо, что лучше и не надо. Подлизал проказник все до капельки и стал необыкновенно весел. Отправляется в кабинет: фу! как аппетитно пахнет! Еще бы! – на комоде лежат яблоки. Тянет Мишутка носом: направо, налево, все выше, выше... лезет на комод... Что за чудо?.. Видит Топтыгин, что с другой стороны комода лезет такой же молодец, как и он... Вот так штука! Мишук его хочет обнюхать, а тот тянется к нему... Мишук оскалил зубы, и тот оскалился... Долго разглядывал Топтыгин молодца, да вдруг, размахнувшись хорошенько, – бац лапой по зеркалу... Треск, стук, звон! Все, что было на комоде, грохнулось на пол и разбилось вдребезги. С испуга Мишук, как ошалелый, шмыгнул под офицерскую кровать, уткнулся носом в угол и лежит, не шелохнется. Тут кончились его проказы: будучи пьян, он мертвецки заснул.
Воротился Ермолай, – глазам своим не верит: вся кухня залита водой; тут морковь, там огурцы, осколки тарелок, разбитая банка, опрокинутое ведро... – «Ах ты, разбойник этакой!» – возопил денщик, видя, что каморка отперта, – «вот и не бей его!.. Да куда же сам он девался?» Идет Ермолай отыскивать разбойника. Входит в столовую: ничего – только бутылка валяется; вошел в кабинет – так и обмер. – Гляди, что наделал! – еле вымолвил денщик. – Еще бить не велят! да его убить – так мало!.. И куда же он девался, окаянный?
Услыхал Мишук знакомый голос и высунул свою пьяную морду из-под кровати... Но что это была за рожа! От огуречного рассола шерсть медвежонка спуталась и слиплась на разные манеры: на голове франтовской пробор и прекурьезные рожки; одна щека гладко прилизана, другая вся в завитках; из-под морды торчит бородка... и вдобавок, физиономия обильно усыпана пудрой... «Рожа-то, рожа!» – невольно воскликнул денщик и плюнул Топтыгину в самую морду. – «Ты что это наделал? думаешь даром все будет сходить? Что глядишь-то? что глазами хлопаешь?» – горячился Ермолай, видя невозмутимое спокойствие разбойника, – «думаешь похвалят? Нет, брат, постой! я тебя попотчую!» А медвежонок ничего не думал: своими масляными глазками он, спросонья, равнодушно смотрел на Ермолая, пока тот не потащил его в кухню. Подкутивший Топтыгин как мешок волочился по полу.
Взял Ермолай хорошую плеть, давай стегать Мишутку по чем ни попало. Бьет да приговаривает, – «не балуй! не балуй! не проказничай! вот тебе! вот тебе!..» Мишук, не понимая, в чем дело, машинально закрывался лапами, ворчал; но тронуться с места не мог: все кружилось в его голове, и даже Ермолай казался ему стоящим кверху ногами. Вошел офицер...
– Ты сумасшедший! – закричал он на денщика, – за что ты бьешь его?
– Я не сумасшедший, ваше благородие, – обиделся Ермолай. – А вы полюбуйтесь на кухню, да зайдите к себе в кабинет, – вот и узнаете, за что я его бью. Это что? это что? – повторял расходившийся денщик, указывая на огурцы, на морковь, на битую посуду. Офицер с удивлением осматривал кухню; наконец остановил свой взгляд на медвежонке.
– Чем ты его вымазал?
– Кто его мазал! – сердито отвечал денщик, – сам он себя вымазал!
– Ну, Мишук, – сказал офицер, – поделом вору и мука!
Часа два провозился денщик, пока привел все в порядок; а обедать офицеру пришлось уже вечером: хлеба нет, воды тоже, вино исчезло, огурцы истоптаны... Грубо втолкнул Ермолай Потапыча в каморку и более суток морил его голодом.
XXIV. Счастливый случай помогает Топтыгину загладить свою вину
Итак Ермолай и Топтыгин поссорились. Уже с неделю денщик хмурился на своего соседа. Медвежонку не было иной клички, как «пьяница». Его не оставляли одного в квартире, а уводили в сарай и запирали там на замок. Выдача десерта прекратилась. Когда денщик обедал, то сколько Мишук ни хлопал себя по губам, – приглашения подсесть к столу не получал.
Но всякая беда забывается. Между соседями скоро возобновилась дружба. Вот как это было. Раз утром, войдя в кабинет, Ермолай спросил офицера: «Вы дома будете, ваше благородие?» – «А что?» – «Да на базар надо идти. Если вы уйдете, я того «пьяницу» в сарай запру». – «А ты возьми его с собой прогуляться», – предложил офицер. Это денщику не понравилось. «Зачем его брать, ваше благородие? с ним еще беды наживешь!» – «Ничего, возьми», – настаивал офицер, – «на цепи поведешь, никакой беды не будет». – «Слушаю-с», – угрюмо ответил денщик.
Ермолай, Альма и Топтыгин пошли на базар. Всю дорогу медвежонок и собака были в самом лучшем расположении духа. Возня была отчаянная. Ермолай с трудом сдерживал Мишутку: трудно было решить, кто кого ведет на цепи – денщик медвежонка, или медвежонок денщика? Не раз Топтыгин вырывался, но Альма тотчас впивалась в его ухо, и Ермолай успевал схватить цепь. Разумеется, за Мишкой следовала толпа любопытных. Вдруг из ворот одного дома выскочил свирепый бульдог, бросился на Альму, сшиб ее и стал трепать несчастную без всякой жалости... Через секунду Топтыгин держал уже бульдога за шиворот... Альма была спасена. Мишук последовал было за нею, оставив без всякого внимания недавнего врага. Но злой бульдог вздумал отомстить медвежонку за оскорбление, и сам уже кинулся на него. Тогда Топтыгин ловко подхватил его в лапы и со всего размаху ударил его о землю... Толпа вскрикнула от удивления... Все думали, что собака убита. Однако неугомонный бульдог вскоре оправился и, как-то изловчившись, порядочно куснул медвежонка. Эта дерзость привела Топтыгина в ярость: он вышел из своего обычного спокойствия, схватил опять бульдога в лапы и сжал его так крепко, что тот едва остался жив. В эту минуту с одной стороны подбежал Ермолай, с другой хозяин собаки, и бульдогу посчастливилось вывернуться из могучих лап медведя, прежде чем тот впустил в него свои зубы... После такого урока, забияка потерял охоту мстить, и с жалобным воем убежал восвояси. В толпе послышались насмешки и поощрения: «Что, брат, не понравилось?.. И поделом ему!.. Уж такая злющая собака: никому проходу не даст!.. Ай да Мишка: своих в обиду не дает!..» Весь базар восхвалял подвиг Топтыгина. А Мишук, довольный тем, что выручил подругу из беды, снова стал заигрывать с Альмой. Ермолай просиял. – «Ну, Мишка», – сказал он, лаская медвежонка, – «за такую штуку помиримся, брат! Хоть ты и пьяница, а ума еще не пропил!». И помирились соседи...
XXV. Мишук приобретает новый друзей, но поступает с ними совсем не по-дружески
Бульдога на базаре знали все, и все недолюбливали его за строптивый нрав. Мишук сразу завоевал общее расположение к себе, проучив забияку: и торговки, и купцы стали сильно баловать медвежонка. Но Топтыгин чересчур бесцеремонно пользовался их расположением... Он не пропускал случая стащить у беспечной торговки калач или яблочко; воровал пироги, запускал свою лапу в кадочку с медом; а то так и целый лоток захватит бывало в передние лапы, да и пойдет удирать в припрыжку, пугливо оглядываясь назад... То-то было смеху! Закричат, заголосят торговки, побросают свои товары и кинутся догонять «пострела». Шум, визг, гам, толкотня!.. Настигнут «пострела», – тот бросит лоток на землю, ухватит, что получше, и марш с добычею домой, сопровождаемый отчаянною бранью обиженной торговки. Многие бабы стали коситься на медвежонка.
Особенно докучал Мишутка одной торговке, Марье. Эта баба славилась по городу замечательной сварливостью; целой головой была выше своих сотоварок, и... вечно повязывалась красным платком. Торговала она разною мелочью – кошельками, гребенками, зеркальцами, – товаром мало интересным для медвежонка. Но Топтыгин решительно не мог равнодушно видеть злосчастную Марью: чуть, бывало, поравняется с нею, тотчас поднимется на задние лапы – и прямо на нее... Кричит благим матом торговка, пока не подоспеет денщик. Всех удивляло, почему Мишук никого не трогает, а на Марью всегда нападает?
– Поди ж ты, – говорили торговки, – стало быть и зверь отличает злого человека. – То-то, бабы, – говорил Ермолай, лукаво посмеиваясь, – живите мирно, не ссорьтесь: а то Михайло Потапыч и до вас доберется. – И точно, иная баба переставала браниться, завидев медвежонка. Раз Мишук уж очень обидел Марью: изорвал ее любимый платок. Торговка не вытерпела и побежала с жалобой к офицеру. Ермолай струсил. Думает, – как бы мне нагоняя не было: ведь это я приучил медвежонка на красный шарф кидаться. Пустился денщик догонять торговку, – Марьюшка! остановись! – Марья и слушать не хочет: летит как вихорь. Прибежал Ермолай домой, привязал медвежонка, слышит – Марья уж в кабинете горланит. Входит денщик в кабинет.
– Как это случилось? – спрашивает офицер.
– Не могу знать, ваше благородие, – солгал Ермолай, – он никого не трогает. Подразнила верно. Собаку подразни – и та кинется.
Как сказал он это, Марья так и позеленела от злости... И выговорить ничего не может... Хорошо, что денщик догадался уйти: еще б секунда, и торговка вцепилась бы ему в глаза. Офицер поспешил вынуть, кошелек и выпроводить торговку «Ну, что стоил твой платок?» – спросил он Марью.
– Как, что стоил? – загорланила торговка, – известно, денег стоил!
– Да сколько же?
– Сколько!.. Этакого платка и за три рубля не купишь?
Офицер вынул бумажку, отдал ее Марье и сказал: – Вот тебе три рубля, и ступай с Богом! – Торговка быстро удалилась.
Ермолай поджидал ее на крыльце: – Ну что, Марьюшка? – обратился он ласково к торговке.
– Отдал три рубля, вот тебе и что! – ответила Марья.
– Слушай, Марьюшка, – таинственно проговорил денщик, – ты теперь не вздумай красный платок покупать, а то... Вот у Кузьмина посмотри: там есть синие платки: и дешевы, и хороши, да только, Марьюшка, спроси не красные, а синие. Запомни, что синие.
– Ну спасибо, что сказал: куплю синий платок. – Торговка весело побежала на рынок.
Но напрасно хитрил Ермолай: Мишутка не встречался более с Марьей, и она спокойно могла бы повязываться и красным платком. Офицер запретил водить Топтыгина на базар. Такое запрещение было великим наказанием для Мишутки. Всякий раз, когда Ермолай уходил, медвежонок, запертый в сарае, ревел и бушевал, как безумный. Как-то раз ему удалось вырваться на улицу. Разумеется, он побежал прямо на базар. Был вечер. На улицах пусто. Мишук никого не встречал. Близ базара была лавка, в которой однажды купец угостил медвежонка пряником. Неуклюжий лакомка заметил эту лавку и никогда не проходил мимо нее без того, чтоб не сделать визита любезному купцу... Топтыгин ввалился в знакомую лавку. Нет никого. Непрошенный гость подошел к ящику с пряниками и без всякой церемонии стал уничтожать их один за другим, пыхтя и чмокая на всю лавку. Купец сидел в соседней комнате и читал газету. Он всегда занимался политикой. Слышит, в лавке кто-то пыхтит, – но бросить газету не в силах. – Эй, – кричит купец приказчику, – Иван! где ты там пропадаешь? Покупатель столько времени дожидается, а тебе и горя мало.
– Сейчас-с! – отвечает Иван, и с приятной улыбкой спешит к покупателю. – Что вам угодно? – говорит по привычке Иван, входя в лавку... Но вдруг останавливается на месте и с удивлением восклицает: – Вот так покупатель! – Мишук искоса глянул на приказчика и преспокойно продолжал свое дело...
– Петр Саввич! – крикнул хозяину Иван, – тут такой покупатель, что я и не знаю, что мне с ним делать! – Вошел хозяин... Мишук, не смущаясь, истреблял пряники. Ни купец, ни приказчик не решались побеспокоить Топтыгина. Оба молча глядели, как быстро исчезает их товар.
– Как же теперь быть? – спросил наконец хозяин. Приказчик только руками развел. А «покупатель», покончив с пряниками, перешел к ящику с леденцами.
– Гляди-ка, – сказал купец.
– Вижу, – отвечал приказчик.
– Что же это будет?
Приказчик опять развел руками. Вдруг купец вскрикнул, как ужаленный: – Да что ж мы одурели, что ли? Беги скорей за Ермолаем!... – В дверях Иван налетел на Ермолая... И повели Топтыгина с позором домой... Наутро офицер получил от Петра Саввича следующий счет:
«Вчерашнего числа в лавке моей было съедено медвежонком вашего благородия:
1. Пряников ароматных – 6 ф. по 30 к. за ф. – 1 р. 80 к.
2. Коврижки столовой – 5 ф. по 25 к. за ф. – 1 р. 25 к.
3. Карамели высшего сорта – 1 ф. с осьмой – 50 к.
Итого – 3 р. 55 к.
По сему счету деньги прошу уплатить. И покорнейше прошу, чтобы медвежонку вашего благородия вход в мою лавку был строго воспрещен.
С почтением Петр Велюгин.»
XXVI. Елка
Удивительное дело: чем более платил офицер за проказы Мишутки, тем сильнее привязывался к медвежонку. Когда же Ермолай рассказал офицеру, как Топтыгин заступился за Альму, – офицер пришел в совершенный восторг.
– Его надо наградить, – сказал он, – устроим ему елку... Зайди к капитану Семенову, к поручику Захарову, и к братьям Яковлевым: проси их быть у меня сегодня вечером и скажи, что де у нас сегодня елка.
– Слушаю, ваше благородие, – ответил денщик, улыбаясь во весь рот.
Вечером пришли товарищи офицера. Среди залы красовалась убранная елка, на которой висел лист бумаги с надписью: «За спасение погибающих!» Офицеры расхохотались... Зажгли елку. Ермолай ввел косолапого героя. Сначала Топтыгин не обратил на елку никакого внимания: увидев много незнакомцев, он сконфузился и скромно уселся на пороге комнаты. Но вкусный запах плодов и конфет так аппетитно щекотал его нос, что медвежонок не вытерпел, – переваливаясь подошел к елке и очень деликатно стал обирать ее: то сорвет яблочко, то конфетку, – и все не спеша, без жадности, как самый благовоспитанный мальчик. Все гости залюбовались на Мишутку; похвалам не было конца.
– Ах, какой славный!.. – Посмотрите, как он ловко снял бумажку с конфеты!.. – И как прилично кушает!.. – Даже Альма удивлялась своему другу: склонив головку на бок, она не сводила глаз с медвежонка и выражала своей мордочкой полное удивление.
Но не прошло и десяти минут, как гости убедились, что в характере Топтыгина еще много дурного. Капитан Семенов хотел было сорвать яблоко с елки. Едва он протянул руку, как Мишук с остервенением бросился на него... Все подскочили со своих мест... Медвежонок облапил ноги капитана. После больших усилий, криков и побоев, офицеру удалось оттащить разъяренного невежу. Ермолаю приказали увести неблагодарного воспитанника. Топтыгин заупрямился... Чуть Ермолай притянет его к двери, – он обратно возвращается к елке. Наконец офицер потерял терпение и, взяв плетку, стал стегать упрямца, что было силы. Тут Мишутка в один миг сгреб в лапы елку и сломя голову полетел в кухню. Альма с громким лаем кинулась догонять своего друга. Раздался общий хохот.
Конечно, Ермолай сделал строгий выговор своему воспитаннику: – Эх, ты, косолапый! при всех господах офицерах осрамился! Цапни-ка меня, как я стану убирать твои гостинцы, так я тебя и в живых не оставлю! – Но Мишук не трогал Ермолая: или медвежонок был уже сыт, или понял, что нападать на тех, кто его любит, не годится; или же просто боялся денщика...
Между тем офицеры разговорились о медведях. Поручик Захаров доказывал, что держать при себе медведя очень опасно.
Он рассказал такой случай: Одна баронесса вырастила медвежонка. Он жил постоянно в ее комнате, был приучен к опрятности, как собака, а спал рядом с комнатой баронессы. Целый год все радовались, глядя на медведя, и ни одному человеку не приходило в голову, что этот добрый зверь может наделать какой-нибудь беды. И что же?.. В одно утро баронессу нашли растерзанною ее любимцем...
– Про этот случай я читал, – сказал офицер, – но ведь моего Мишку на ночь запирают, а если он нападет на меня днем, то я сумею защититься.
Проказам Мишки не было конца. На Масленой неделе он выворотил на себя полную банку опары и, разумеется, долгое время после того ходил в самом безобразном виде. А накануне Светлого Воскресения Мишук окатился краскою от яиц и, к удивлению всех, в первый же день праздника появился на дворе в малиновой шубке. То-то было смеху! Топтыгина прозвали – «писанка» и долго потешались над ним.
Около этого времени медвежонку нездоровилось: у него сходила кожа на подошвах. Это бывает у медведей ежегодно, причем им очень трудно ходить.
Наступила весна. Медвежонок целые дни проводил на дворе, играя с Альмой. Из людей он никого не трогал, но только не мог равнодушно видеть бегущего человека: стоило кому-нибудь пробежать по двору, как Мишук стремглав пускался в погоню за бегущим и хватал его за ноги. В наказание за это Ермолай привязывал медвежонка на цепь.
XXVII. Топтыгин переезжает в лагерь
Батальон, в котором служил офицер, выступал в лагерь. Лагерь находился в трех верстах от города. Ермолай с утра суетился около телеги, укладывая офицерское имущество. Наконец все было готово. Денщик привязал Мишутку сзади телеги и крикнул извозчику: трогай!.. Но оказалось, что медвежонок вовсе не желал переменять место своего жительства: он упирался, подымался на дыбы, опрокидывался на спину и решительно отказывался следовать за телегой! – «Повести его на цепи? – подумал денщик, – а ну как на половине пути заупрямится, – что я стану делать?..» Как ни раздумывал Ермолай, пришлось нанять другую телегу. Но опять беда. Топтыгин и в телегу не садился... Насилу-насилу удалось Ермолаю заманить медвежонка конфетами. Телега тронулась. Ермолай и Мишук сидели друг против друга. Ермолай вынимал по конфетке и угощал Мишутку; Мишутка быстро развертывал бумажку и съедал конфетку. Ермолай глядел, как медвежонок ест, и думал: «уж очень ты спешишь, товарищ! этак скоро ничего не останется!» Мишук же смотрел, как Ермолай вытаскивал конфету и, по-видимому, рассуждал: «уж очень ты копаешься, друг милый! просто ждешь не дождешься!»
А телега медленно колыхала обоих, еле-еле повертывая колеса... Конфеты кончились... Топтыгин стал беспокоен. Начался лес. Медвежонок пуще засуетился... и вдруг, сильно рванувшись, соскочил с телеги. Лошадка испугалась и понесла в одну сторону, Мишук поскакал в другую. Ермолай, разинув рот, следит за медвежонком, а соскочить с телеги страшно. Глядит: Топтыгин уже на дереве. – «Да сдержи же лошадь!» – кричит денщик извозчику. Но как извозчик ни старается сдержать, – не может. К счастью, на дороге застрял какой-то воз... Лошадка круто осадила, извозчик клюнул носом. Ермолай перекувыркнулся и как лягушка шлепнулся на землю.
– Тьфу! – плюнул несчастный денщик, – постой ты, косолапый! будешь ты меня помнить! Только бы мне поймать тебя!
Но ловить медвежонка не пришлось: он сам уже давно сломя голову летел за телегой, и пока Ермолай оправлялся, медвежонок словно с неба свалился в телегу.
– О чтоб тебя, угорелый! – воскликнул денщик и невольно рассмеялся. Тронулись дальше...
В лагере Мишук внезапно очутился среди множества солдат. Он струсил и прижался к Ермолаю, как бы прося его защиты. Солдаты без конца острили над Потапычем. Телега подвигалась к палатке офицера; толпа росла и росла; шум, говор и смех усиливались все более и более; отдельные восклицания сливались в общий радостный клик: словом, можно было подумать, что в лагерь въезжает не медвежонок, а знаменитый полководец. Топтыгин попрыгивал, как на рессорах, и робко озирался по сторонам: казалось, что он раскланивался с народом.
Телега стала. На шум из офицерской палатки выскочила Альма и, завидев своих, подняла неистовый лай. Мишутка спрыгнул на землю. Толпа отхлынула. Медвежонок бросился в объятия своей подруги, и пошла потеха. Солдаты покатывались со смеху, глядя, как ловкая собачонка заставляла кувыркаться своего неуклюжего товарища, как она выскальзывала из его могучих лап, хватала его то за уши, то за ноги, ловким прыжком опрокидывала медвежонка на спину и теребила его шею, пускалась от него бежать и через секунду была у него на спине...
Хохот не умолкал ни на минуту. Но вот друзья прилегли отдохнуть.
Один солдатик, желая подзадорить Мишутку, толкнул на него Альму. Собака взвизгнула. Вдруг медвежонок с ревом бросился на солдата и вмиг опрокинул его на землю. Толпа рассеялась. Никто не подумал кинуться на помощь товарищу. Солдат лежал точно мертвый: не дышал, глаза закрыты, руки и ноги без всякого движения... Топтыгин изумился: осмотрел он солдата, обнюхал его хорошенько; походил вокруг; отошел и оглянулся; еще отошел и опять оглянулся; наконец медленно поплелся к Альме, которая все это время не сводила глаз с лежавшего солдата. Солдата не шевелился. Но едва медвежонок улегся, – мертвец вскочил, как встрепанный, и с криком: «вот как вашего брата надувают!» – бросился в толпу. Все, как стояли, так и покатились со смеху. Мишук пустился было догонять обманщика; но Ермолай схватил буяна и привязал его к столбу.
– Никогда медведь не тронет мертвого человека, – повторял солдат, довольный своею проделкой.
XXVIII. Беззаботная жизнь
С каждым днем лагерная жизнь нравилась Топтыгину все более и более. Катается Мишук, как сыр в масле. Утром рано-рано являлся он в палатку офицера и лакомился сахаром; потом подсаживался к Ермолаю и выпрашивал ломтик хлебца; затем отправлялся на кухню и, перекусив кое-чего, не забывал завернуть в хлебопекарню. Сюда он хаживал часто. С хлебопеками был ласков, но при всяком удобном случае уносил в палатку Ермолая по целой ковриге хлеба.
Между тем солдаты уходили на ученье, и Топтыгин считал своим долгом осмотреть солдатские пожитки: не лежит ли что плохо. И действительно: то из-под шинели торчит краюха хлеба, то под подушкой окажется сухая деревенская лепешка... И Потапыч бывало переходит из палатки в палатку, пока не турнут его хорошенько. Тогда Мишук пойдет возиться с Альмой. Потом побегает с кем-нибудь взапуски; поборется с Ермолаем; соснет немного... Барабан к обеду разбудит его... После обеда Мишка еще уснет. Возвратятся солдаты с вечерних занятий, Мишук отправляется с ними купаться. После купанья опять с кем-нибудь поиграет или порезвится на гимнастическом городке и всех удивит своею ловкостью. А там и ужин.
Ночью Мишук положительно сторожил палатку Ермолая, и если какой-нибудь солдат ради шутки пробовал стащить что-нибудь у денщика, то еле-еле спасался от преследования неуклюжего сторожа.
XXIX. Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить
Несмотря на разнообразие лагерной жизни, Топтыгин любил бродить и по окрестностям. Уходил Мишук из лагеря обыкновенно до рассвета... За лагерем находилась пасека... В первый раз Мишук забрел туда случайно и без всякой помехи накушался медку до отвалу. Разумеется, на другой день Топтыгин опять отправился к пчелкам.
Но теперь пасечник поджидал косолапого гостя. В недалеком расстоянии от пасеки, на одном из деревьев, он укрепил улей, а перед ульем повесил тяжелый чурбан.
Когда Мишук взлез на дерево, чтобы освидетельствовать улей, то оказалось, что чурбан как раз закрывал отверстие улья. Мишка слегка отвел его в сторону, – тот возвратился и хлопнул вора по голове; Мишук толкнул чурбан сильнее, – он откачнулся далее и еще крепче стукнул дурака по башке; Мишук озлился и уже со всей силы отбросил его в сторону, – чурбан отлетел, секунду подержался в воздухе – и как бомба шарахнул Мишутку по голове. Глупец освирепел... Не чувствуя боли, забыв про все, с диким азартом стал он кидать ненавистный чурбан сильнее и сильнее, – и за каждый толчок получал все новые удары в голову. Долго Топтыгин колотил бы ее и, может быть, заколотил бы себя на смерть, – да к счастью отыскал его Ермолай и, сманив с дерева, повел домой. Целый день болела голова у Топтыгина; однако вскоре он снова отправился к пчелкам.
На этот раз пасечник, зная, что медвежонок ручной, приготовил ему совсем невинную ловушку... На том же дереве, где Мишук получил головомойку, опять был утвержден улей, но перед ульем висел не чурбан, а доска, которая также закрывала отверстие улья. Доска эта держалась на тонкой бечевке. Не успел Мишук перервать эту бечевку, как доска вместе с ним дернулась книзу, повисла на толстых веревках и стала плавно кататься... Топтыгин очутился на качелях. Он совсем оторопел: и спрыгнуть-то страшно – высоко, и ухватиться не за что – доска подвешена так, что поблизости нет ни одного сучка. Глянет Мишка вверх, глянет вниз, посмотрит по сторонам – нет спасения. А доска знай себе покачивается. Топтыгин замычал...
В это самое время мимо пасеки солдаты с музыкой шли на ученье. Увидев своего любимца на качелях, они так и фыркнули; музыканты сбились... Произошел полнейший беспорядок.
– Здорово, Михайло Потапыч! – кричали шутники. – Экое тебе раздолье! Мы на ученье идем, а ты вот на качельках забавляешься!
А Мишук качается, да таково жалобно ноет: «будет, мол, вам зубы-то скалить! с кем беды не случается? Помогите-ка слезть, братцы!»
Но батальон миновал пасеку, и Мишук заревел еще громче, еще жалобнее. А несносная доска качается себе из стороны в сторону, точно забавляется бедою медведя.
Вдруг раздался звонкий лай Альмы. Скоро Мишук увидел собаку, а за нею – Ермолая. От радости бедняга заревел, как корова.
– Что, дурень? – кричал Ермолай еще издали, – видно мед-то не легко дается! Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить!
Альма лаяла на медвежонка, как на кошку. Пришел и пасечник. Мишка уже перестал реветь, а только нетерпеливо пыхтел. К великой его досаде денщик и пасечник разговорились. «Я знал, что он ко мне еще пожалует», – начал пасечник, – «вот и приготовил ему качельки».
– Вы диких-то медведей так же ловите? – спросил Ермолай.
– Нет, – отвечал пасечник, – для диких под качелями в землю острые колья вбиваем: как спрыгнет медведь, так на кольях и застрянет.
– Слышишь, Мишка, что с вашим братом делают? – шутил денщик.
Миша жалобно мычал: от качки у него кружилась голова... Наконец Ермолай сжалился над медвежонком: доску подвели к дереву, и Потапыч спустился на землю. Почувствовав под ногами твердую почву, он как ошалелый побежал домой. Альма стала было заигрывать, но Потапычу было не до игр.
XXX. Неосторожное обращение с огнестрельным
Однако не все проделки Топтыгина были так же невинны. На даровых хлебах он приобрел порядочную силу; делался все угрюмее и злее, да к тому же был слишком глуп. Он решительно не понимал шуток: разорвал двух чужих собак, которые пристали к нему; искусал руку одному шутнику-солдату, который показал вид, что хочет утащить подушку Ермолая; чуть не задавил и страшно перепугал одну девочку, которая, к несчастью, имела красный платок на голове: – словом, медвежонок часто пускал в дело свои когти и зубы.
В лагере уже многие посматривали искоса на Михайлу Потапыча, – но, благодаря его забавным проделкам, относились к нему снисходительно, стараясь, впрочем, держаться от него подальше.
Наконец Топтыгин совершил два преступления, за которые по военным законам полагалось строгое наказание. Во-первых, Мишук был обвинен в неосторожном обращении с огнестрельным оружием, во-вторых, в самовольном присвоении высшего офицерского чина.
Раз утром, когда солдаты были на ученье, Михайло Потапыч по обыкновению осматривал солдатские пожитки. Проходя мимо одной офицерской палатки, он почуял ароматический запах свежих ягод... Забраться в офицерскую палатку ему никто не помешал: часовые зазевались, денщики спали. Ягоды были на столе, около которого стояло ружье... Мишук поднялся на задние лапы и стал лакомиться. Все шло благополучно. Но вот Топтыгин решил, что будет гораздо удобнее совсем взобраться на стол. Стал он карабкаться, да лапой курок и задел... как ружье выстрелит! Обезумел Мишутка, заметался по палатке, как угорелый, а выскочить из нее не может... Со стола кинулся на пол, потом – на кровать, с кровати снова на стол, стучит, гремит, пугается все больше и больше, а выбраться из палатки не может. Наконец отыскал выход. – Часовые прибежали на выстрел и совсем оторопели: палатка горела... Засуетились, забегали солдаты, кто как, кто с чем, – насилу прекратили пожар...
Командир остался очень недоволен, узнав о случившемся: часовых наказал на два дежурства; Ермолая посадил на три дня под арест, а офицеру приказал, чтобы медведя в лагере не было.
Топтыгин же с испугу разболелся. Он по целым дням лежал в углу денщицкой палатки, ничего не ел, ослаб, сердито рычал на солдата, который заступил место Ермолая, и даже не обращал внимания на Альму, когда она нежно лизала товарища. Одно ухо медвежонка было прострелено.
Грустно было офицеру видеть своего больного проказника, но еще грустнее – сознавать, что он должен с ним расстаться. Офицер решился попросить командира дозволить оставить медвежонка в лагере.
– Однако вы не шутя полюбили своего безобразника! – сказал командир. – Я думал, – его уже нет... Если вы ручаетесь, что больше ничего подобного не повторится, то пусть этот урод остается при вас.
В тот же день освободили Ермолая. Когда он вошел в свою палатку, Топтыгин спал. Денщик долго смотрел на медвежонка и наконец прослезился: он не знал о решении командира. Вбежала Альма... Мишук поднял голову и спокойно взглянул на денщика.
– Аль забыл меня? – тихо произнес Ермолай. – Медвежонок с трудом стал на ноги, застонал, приблизился к Ермолаю и начал лизать его руки. Денщик сел на кровать; Мишка положил свою голову ему на колени и тяжело вздохнул. – Скотина , – подумал денщик, – а чувствует! Наступило молчание... Альма лизала ухо медвежонка; денщик гладил зверя, изредка утирая слезы; Топтыгин стоял неподвижно... Вошел офицер и невольно улыбнулся, видя такую картину...
Какова была радость Ермолая, когда он узнал о решении командира – нельзя и передать. Он то и дело повторял: – «Экой добрый полковник! Дай Бог ему здоровья! Вот душа ангельская!»
Добрый денщик как нянька ухаживал за больным зверем... Топтыгин с благодарностью принимал его заботы и вскоре оправился. Больное ухо отвалилось, рана зажила. Но теперь Мишук был привязан на такой цепи, что сорваться решительно не мог.
Осень наступила рано. Уже в августе начались сильные утренники... Дни стали пасмурны, ветрены и дождливы: ночи – безжалостно холодны. Офицеры спали под шубами; солдаты свертывались клубочком, закутывались с головою в шинели и, тесно прижавшись друг к другу, проклинали ненастную погоду.
Потапычу стало холодно спать под открытым небом, и он выкопал себе большую нору около палатки Ермолая. Солдаты таскали медвежонку сено и любовались, как он старательно устилал свою первую берлогу.
– Хитер ты, Потапыч, – говорили солдаты, – гляди-ка, хату какую устроил! Хоть бы одну ночку с тобою переспать!
И точно было чему позавидовать. Убежище Топтыгина вышло на славу. Мишук частенько в нем отдыхал, а иногда и по целым дням не выходил оттуда. Держал себя Мишка очень скромно... И вот Ермолай, полагая, что цепь только мешает заснуть его любимцу, отцепил ее...
XXXI. Самовольное присвоение высшего офицерского чина
Уже с неделю в лагере была страшная суета. Из Петербурга приехал в город генерал и ежедневно делал осмотры. И офицеры, и солдаты были очень озабочены. О Топтыгине, конечно, забыли все и думать; да он и не напоминал о себе, потому что безвыходно дремал в своей берлоге.
Наконец смотры благополучно кончились. Генерал собирался уезжать, – и вот офицеры устроили ему прощальный обед. Как нарочно после холодных и дождливых дней выдался неожиданно теплый солнечный денек: уж с утра стало проясняться, а к полудню сделалось даже жарко. Солдаты отдыхали в палатках после утренней смотровой стрельбы... В лагере было пусто.
Потапыч, пригретый солнышком, давно уже любовался из берлоги ясным деньком. Ему захотелось прогуляться. Вылез он из своей хатки, отряхнулся, обнюхал воздух и, никем незамеченный, побрел к офицерской столовой. Около столовой в холодке стояла генеральская коляска. Кучера не было – он побежал на кухню кваску испить. Мишка уже приближался к экипажу, как вдруг видит – кто-то оттуда дразнит его красным платком. Подслеповатому медведю не мудрено было ошибиться: дул ветерок, а с коляски свесился край генеральского пальто на красной подкладке... Мишук остановился... Смотрит – красный платок вдруг заколеблется, захлопает по воздуху и повиснет; опять заколеблется, опять захлопает и снова повиснет...
– Постой-ка, – думает Потапыч, – подберусь я к тебе! – И медвежонок стал осторожно, шаг за шагом, подкрадываться к коляске. Вот он подходит ближе, ближе... еще шаг... Пола колыхнулась, – Топтыгин рявкнул... и бух в коляску... Кони рванулись и вихрем понесли к городу. Мишук растерялся... Он трусил выскочить из коляски, хватался за козлы и отчаянно ревел, но этим только поддавал прыти лошадям... Они летели как бешеные...
В лагере поднялась тревога... Какой-то часовой, не разглядев седока, вызвал «дежурных на линию». Дежурные отдавали честь; выбежали солдаты смотреть генерала...
Но коляска исчезла. Оторопелый Топтыгин уже не ревел: с испуганно-глупою мордою, пыхтя и отдуваясь, он хватался за сидение, но при этом только кутался в генеральское пальто. Сильный толчок опрокинул его на спину... И вот Мишук, преважно развалившись в коляске, подъезжает к городу... А у заставы собралась толпа, поджидая генерала, «едет, едет!» раздалось в толпе... Каково же было изумление зрителей, когда в пролетевшей мимо них коляске вместо генерала оказался медведь. Все с гамом хлынули за лошадьми. Вдруг коляска врезалась в забор... Мишук стукнулся мордой о козлы и вылетел на землю... Толпа гудела, как на пожаре... Многие не знали, в чем дело: кто говорил – генерал убит; другие – что убит только кучер; третьи божились, что сами видели, как медведь душил генерала, а коляска вся залита кровью... Прибежал кучер, красный, как из бани. Только и повторяет: – «Ах родимые! Ах, батюшки!»
А с медвежонком сладу нет, совсем остервенел: ухватился за генеральское пальто, не дает да и только. Явился Ермолай – лица на нем нет: краше в гроб кладут... Толпа смолкла и расступилась. Мишутку повели в лагерь.
XXXII. Мишук приговорен к смерти
В лагере все думали, что Мишук бросился на лошадей. Никому не приходило в голову, какая невинная причина залучила медвежонка в коляску. Генерал приказал застрелить зверя.
Узнав об этом, Ермолай совсем растерялся. Можно было подумать, что его самого приговорили к смерти: – Как застрелить?.. Почему застрелить? – повторял несчастный денщик... И вдруг, бросив цепь, он как безумный кинулся к офицерской палатке...
– Ваше благородие, не убивайте его! – кричал денщик, валяясь в ногах офицера, – Божье создание!.. Ни в чем не повинен! Как Бог его создал, таков он и есть! Не убивайте!.. На моей душе грех!.. Нешто можно застрелить?.. Ну, как его застрелить? – Офицер едва сдерживал слезы...
– Бери скорей ротную телегу и увози его, куда хочешь! – сказал он денщику и спешно удалился в палатку. Ермолай убежал...
А около Потапыча собрался чуть не весь батальон... Один солдат держал медведя на цепи, другой отгонял от него всех любопытных. Думали, он бешеный. Умная Альма, казалось, понимала, что против ее друга замышляют что-то недоброе. Она лизала Мишутку и в нос и в уши, егозила и ластилась перед ним на разные манеры; но медвежонок был равнодушен к нежностям Альмы и, по-видимому, искали, глазами Ермолая. Ермолай, запыхавшись, подбежал к медвежонку, бросил перед ним разных остатков от офицерского стола и скрылся снова... Мишук аппетитно зачавкал... Подъехала телега.
Солдаты стали шутить: – Прощай, Михайло Потапыч!.. – Дослужился до генеральского чина, – пора и в отставку!.. – Тише, ребята! Генерал Топтыгин здесь!.. – Не поминай нас лихом, безухой! Приведет Бог в лесу повстречаться, – так уж ты старую хлеб-соль не забудь!»…
Шумели страшно. Один чудак полез целоваться с медведем и притворно разревелся. Топтыгин бессознательно обнял его и замычал. Солдат заголосил по-бабьи. Медведь долго смотрел на чудака и вдруг залепил ему звонкую пощечину... Все захохотали.
Опять прибежал Ермолай: на этот раз с водою, – начал поить медвежонка.
– Поедем, что ли! – крикнул конюх с телеги, – ведь поздно будет! – Денщик заторопился; метался на месте, не зная, что ему делать; натолкнулся на Альму, – и как та ни сопротивлялась, привязал ее...
– Не останется Мишка в лесу, – сказал кто-то, – назад прибежит. Разве чем испугаете, так пожалуй, уйдет. Из ружья бы выстрелить...
Ермолай услыхал это... Он кинулся к Мишутке, схватил его за ошейник, – и через минуту оба сидели в телеге... Телега тронулась... Альма стала отчаянно рваться; лаяла, визжала, наконец, завыла. На глазах ее показались слезы.
– Как собака-то его любила, – говорили, уходя, солдаты, которым тоже грустно было расставаться с косолапым забавником.
Телега спустилась в лощину и пропала из виду... Вышел офицер из палатки... Вон далеко-далеко лошадка поднимается в гору... вот свернула вправо... остановилась... снова тронулась... Телега въехала в кусты... Не видать больше.
Лагерь успокоился, – и только завывание Альмы напоминало всем о бедном Мишутке.
Дорогой Ермолай не переставал потчевать своего друга. Карманы денщика были переполнены всякой всячиной. Скушает Мишук одно, – Ермолай тащит ему другое.
А между тем за темным лесом давно уже не видно было яркого солнышка. Свежий, сырой ветерок пробирал путников до костей.
– Все, голубчик, – сказал Ермолай, – все, ничего не осталось. – Миша вопросительно посмотрел на денщика, сунул свою морду в один его карман, потом в другой, и вновь удивленно глянул на своего друга. «Эх, ты, сирота горький!» – вздохнул денщик и, запустив руку за голенище, вытащил оттуда сухой пряник. – «На!.. Съешь на прощанье!»...
– Далече отъехали, – сказал конюх, – смотри, какая глушь.
– Остановись, – отвечал денщик.
Телега стала. Слезли. Топтыгин жадно вдыхал в себя лесную сырость. С ним происходило что-то необычайное. Он, конечно, не знал, что этот лес – тот самый, где он родился и вырос, где его ласкала мать, где он игрывал с братьями и сестрами, – ничего этого медвежонок не сознавал: он только чувствовал, что здесь ему хорошо, очень хорошо.
Так всякий из нас испытывает величайшую отраду, когда случайно попадет в местность, похожую на его родину.
Вероятно и Топтыгин почуял родное... И стоя в каком-то раздумье, Мишук долго покачивался на передних ногах из стороны в сторону.
– Стащи с него ошейник, – шепнул конюх, – а то с ошейником уйдет.
Но и ошейник сняли, а Мишка все качался на месте, пристально всматриваясь в лесную глушь. Ермолай молча глядел на зверя. Тут конюх чем-то брякнул... Мишук вздрогнул, медленно подошел к луже и начал жадно лакать; потом приблизился к одной сосне и стал царапать когтями кору дерева. Этим он занимался довольно долго. Вдруг он зарычал как-то необыкновенно, и спешно побрел в самую глубь леса.
– Знать что-нибудь почуял, – прошептал конюх.
– Медведя почуял, – отвечал денщик, – тут много медведей. Мне говорили крестьяне, что прошлой зимой в этом самом лесу десятерых медведей уложили.
– Глянь-ка, глянь, – как удирает! – воскликнул конюх. Топтыгин исчез в густом ельнике. Слышался только треск сучьев.
– Пропал! – сказал конюх, когда все стихло.
– Пропал! – повторил Ермолай, едва сдерживая слезы. Они сели в телегу, и лошадка быстро понесла их по заросшей лесной дорожке.
XXXIII. Дикарь
А Мишук бежал не напрасно. В полуверсте от дороги он точно встретил молодого медведя, который ради забавы, или для зимней берлоги, преусердно рыл яму. Топтыгин с непритворной радостью бросился к нему; но дикарь за такую любезность угостил его преизрядной пощечиной. Обиженный Мишук ответил невеже тем же – и между ними завязалась драка. Оба противника, нагнув головы на бок и косясь исподлобья, старались осторожно подойти друг к другу, чтобы нанести ловкий удар. Трусость их виделась ясно: едва один из бойцов поднимал лапу, – другой ловко отскакивал. Изредка драчуны обменивались быстрыми ударами и снова разбегались. Мишук храбрился. Не думал ли он, что его ловкостью любуется Ермолай?.. После особенно звонких пощечин, оба противника сразу поднялись на задние лапы и стали попрыгивать друг перед другом, как это делают наши крестьяне на кулачных боях. Прыгая так, косолапые незнакомцы мало-помалу сближались и вдруг, заревев, схватились лапами, точно два борющихся человека, и стали бороться, широко разевая свои пасти. Тут Мишук заметил, что дикарь гораздо сильнее его, и поспешил вырваться из объятий невежи. А дикарь, должно быть, только того и желал: он сделал прыжок в сторону и пустился бежать без оглядки. Разумеется, Мишутка за ним. Долго он преследовал своего обидчика, и наконец забрел в такую чащу, что без привычки еле пробирался вперед. В этой глуши Топтыгин чувствовал себя необыкновенно хорошо: воздух был такой свежий; дышалось так свободно, и столько деревьев, и столько кустов!.. Мишук бессознательно подвигался вперед и вперед, изредка останавливаясь на минуту, если попадалось что-нибудь съедобное. Дикарь исчез бесследно.
Между тем совершенно стемнело; загудел по лесу ветер, закрапал дождик... Усталый Топтыгин присел под навесом широкой сосны и, покачиваясь на передних лапах, задумчиво слушал лесную унылую песню. Эта песня его убаюкала. Он заснул.
XXIV. Сердце сердцу весть подает
Проснувшись на рассвете, Мишук удивленно осматривался вокруг. Все ему казалось незнакомо; он не понимал, каким образом очутился здесь; он старался припомнить, куда ему необходимо тотчас же отправиться. Куда-то надо идти, кого-то надо сейчас увидеть. И вот медвежонок стал ясно представлять себе сначала Ермолая, потом палатку офицера, самого офицера, наконец белые кусочки чего-то вкусного... Суетливо осматривается Мишка, и нигде не находит знакомых предметов... Он торопливо вскакивает, долго обнюхивает воздух и начинает жалобно, жалобно выть... Только теперь он вспомнил и затосковал о тех, которые его любили и ласкали: о Ермолае, офицере, об Альме... Своим плачущим стоном бедный Мишка призывал их к себе, но напрасно: никто не являлся... Только где-то, далеко, в ответ на его стоны слышалось завывание голодного волка. И горемычный сирота пошел бродить по лесу.
Под одной дикой грушей он нашел множество вкусных плодов, сбитых на землю ночным ветром. Он стал есть, и это успокоило его на время. Но не скоро Мишутка забыл своих друзей и часто оглашал лес хватающим за душу стоном.
Когда Ермолай вернулся из лесу, офицер спросил:
– Ну, как ты от него отделался?..
– Сам ушел, ваше благородие.
Офицер очень удивился. Оба помолчали.
– А жалко, Ермолай! – сказал офицер.
– Уж так жалко, что и говорить нечего, – ответил денщик, вздыхая всей грудью.
– Ничего: в лесу на свободе ему не будет хуже.
– Так-то так, ваше благородие, а с кем вы завтра утром будете чаек попивать?
Офицер точно подумывал, о том, что завтра перед ним уж не будет сидеть проказник Мишутка, не будет бить себя лапами по губам, выпрашивая кусочки сахара... Ему было очень жаль медвежонка, но он это скрывал.
Утром Ермолай, подавая самовар, говорил офицеру:
– Всю ночь не спал, ваше благородие: все думал, – Мишук прибежит. Да нет, верно забыл про нас и думать. Жаль, что завтра из лагеря выступаем: может быть, он и придет, да уж нас-то никого здесь не будет.
В палатку тихо вошла Альма. Едва виляя хвостом, она обнюхала денщика, потом офицера и, глубоко вздохнув, улеглась на ковре.
– Всю ночь провыла, – сказал денщик, смотря на собаку.
– Альмочка, скучно? – сказал офицер. Собака нехотя встала, подошла к хозяину, положила свою морду ему на колени и тихо вздохнула.
– Скучно Альмочке!.. скучно собачке! – повторял офицер, лаская бедное животное.
Собака подняла голову и громко завыла.
– Цыц! – топнул на нее денщик, – экая горластая!.. Уж очень господа офицеры обижаются, – пояснил он. Альма смолкла, поджала хвост, отошла в угол, долго кружилась на одном месте и грузно легла на ковер, издав отрывистый вздох.
XXXV. Заключение
Напрасно Ермолай поджидал Мишутку. Им более не удалось свидеться. С каждым днем Топтыгин все больше и больше удалялся от лагеря.
Наступившие холода загнали его в одну пещеру, где он и перезимовал.
И зажил Потапыч на свободе, как живали его батюшка с матушкой. Исходил много лесов на своем веку, делал переходы за сто верст и далее, переходил и за Уральские горы. А с человеком на счастье не встречался. Раз только попал было Топтыгин в беду. Вот как это случилось. В лесу заблудились два деревенских мальчика, шести и четырех лет. Родители долго искали пропавших детей и, наконец, к ужасу своему, нашли их в обществе огромного медведя: один мальчуган кормил медведя, другой сидел на нем верхом, а почтенный Мишка отвечал на доверчивость детей самым любезным образом. При виде этого зрелища отец и мать громко закричали от страха, и косолапый товарищ детских игр пустился бежать. У медведя не было одного уха. Дети рассказали потом, что медведь сам подошел к ним и, несмотря на их крики, преспокойно уселся около них. Тогда они стали забавляться с ним.
Прожил Топтыгин до глубокой старости: без малого шестьдесят лет. Жалок был в эти годы старик: силы совсем оставляли его; отощал бедняга так, что остались кожа да кости; зубы все выпали, язык покрылся густою пеной. Поздней осенью старик, еле волоча ноги, отыскал себе в густом ельнике уютное местечко, улегся поспокойнее, да и не вставал более. Засыпало его листьями, занесло снежком, – и не стало Топтыгина.
Куда же девалась Мишуткина сестрица, которая также попалась охотникам? Она переходила из рук в руки и наконец ее пристроили в столичный зоологический сад, где своим кротким поведением молодая Топтыгина заслужила такую любовь распорядителей сада, сторожей и публики, что даже пользовалась правом свободно гулять по саду. Подобно своему брату, она также сдружилась там с одной собачонкой, – и все посетители сада не могли довольно налюбоваться этою парочкой.
Альма не скоро забыла своего мохнатого приятеля: доброе воспоминание о нем она сохранила на целую жизнь. Офицер подарил ее одному помещику. Как раз в то время, когда она была озабочена уходом за своими детками, тремя малыми щенками, – помещику принесли двух маленьких еще слепых медвежат. Добрая собака, вспоминая, вероятно, о Мишутке, решилась усыновить принесенных бедняжек. Аккуратно, по нескольку раз в день, она подходила к корзинке, в которой лежали сиротки, зубами вынимала их оттуда, облизывала как родных щенят, и затем кормила их своим молоком. Но бедняжки прожили недолго, – и Альма оплакивала каждого, как собственное детище.
Офицер и Ермолай доселе, видя медведя, вспоминают забавника Мишутку.