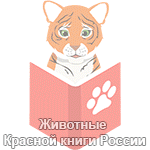Бек
Автор: Джек Лондон
«Почтовый поезд», везший со всех концов света известия людям, искавшим золота чуть ли не близ полюса, прибыл в Клондайк. Он состоял из собак, запряженных в сани. В плохом они были состоянии – измученные, изнуренные долгой дорогой. Даже Бек – гордость и вожак всей стаи, весивший пятьдесят пять кило, – спустил свой вес до сорока пяти кило. Это было не удивительно: в течение пяти месяцев собаки прошли две тысячи пятьсот миль. Когда животные прибыли наконец на место назначения, они едва волочили ноги, слабо натягивая постромки на спусках. Собаки никуда больше не годились, и их решено было продать.
Прошли три дня, в течение которых Бек и его товарищи еще больше обессилели, а на четвертый день явились два человека и купили их вместе со сбруей за бесценок. Одного из покупателей звали Халь, другого – Чарльз. Когда Бека с товарищами привели в палатку новых владельцев, то он сразу увидел, что все здесь очень неряшливо и беспорядочно: палатка была кое-как натянута, посуда валялась грязная и все кругом было в чрезвычайном беспорядке. Из палатки вышла молодая женщина. Мужчины звали ее Мерседес; это была жена Чарльза и сестра Халя.
Бек с опаской смотрел, как они неумело снимали палатку и нагружали сани. Палатку свернули в безобразный тюк, в три раза больший, чем нужно. Оловянные тарелки уложили невытертыми. Мерседес все время вертелась около мужчин, без умолку болтая и давая советы. Когда они клали мешок на передок саней, она советовала положить его сзади, а когда они перенесли его и сверху положили другие узлы, она вдруг вспомнила о каких-то еще неуложенных вещах, которые непременно надо было уложить именно в этот мешок, – и сани снова были разгружены.
Три человека вышли из соседней палатки и, пересмеиваясь, смотрели на эти сборы в путь.
– Груз-то у вас великонек, – сказал один из них, – на вашем месте я бы эту палатку бросил.
– И не подумаю! – воскликнула Мерседес. – Как же я буду путешествовать без палатки?!
Она решительно покачала головой, и Чарльз с Халем положили последние вещи на сани, нагруженные горой.
– Думаешь, сани дойдут? – спросил один из зрителей.
– Конечно, дойдут, – холодно ответил Халь и, взмахнув бичом, крикнул: – Марш!
Собаки изо всех сил натянули постромки, но перегруженные сани не двигались с места. Тогда на животных досыпался град ударов.
– Я им докажу, лентяйкам! – кричал Халь.
Наконец, после многократных попыток, сани сдвинулись с места; собаки тянули, выбиваясь из сил под яростными ударами.
На расстоянии восьмидесяти метров впереди дорога поворачивала и круто спускалась на главную улицу. Надобно было опытного погонщика, чтобы удержать тяжелый воз; Халь не имел этой опытности. На повороте сани опрокинулись, и половина плохо увязанного груза вывалилась на дорогу. Собаки не остановились. Облегченный воз подпрыгивал за ними, лежа на боку. Они были рассержены дурным обращением и тяжелым грузом. Бек был вне себя от бешенства. Он пустился бегом, упряжка последовала за вожаком. Халь кричал: «стой, стой», но они не обращали на него внимания. Он побежал, но был сбит с ног. Опрокинутые сани переехали его, а собаки выскочили на главную улицу и помчались дальше, разбрасывая остатки груза, к великому удовольствию прохожих.
Нашлись добрые люди, которые поймали собак и подобрали рассеянные пожитки. Они давали и советы.
– Если желаете доехать до города Даусона, возьмите, лишь половину груза и впрягите вдвое больше собак, – вот что говорили им.
Халь, его сестра и зять послушались совета и начали распаковывать вещи.
– Одеял хватит для целой гостиницы, – проговорил один человек, который помогал им, едва удерживаясь от смеха. – И половины много, бросьте их. Бросьте и все эти тарелки. Все равно, кто их мыть будет!.. Господи, боже мой, вы, кажется, воображаете, что поедете в спальном вагоне.
Так продолжалось беспощадное выбрасывание всего излишнего. Мерседес плакала, когда мешки с ее шитьем бросили на землю, и начали выбрасывать вещь за вещью. Она плакала над каждой выбрасываемой вещью.
Наконец она вытерла глаза и начала сама выбрасывать вещи и как раз самые нужные. В своем усердии она зашла так далеко, что, покончив со своими вещами, принялась за вещи мужчин.
Когда все это было кончено, груз, хотя уменьшенный вдвое, все еще был страшно велик. Вечером Халь и Чарльз купили еще шесть собак.
Бек и его товарищи смотрели на них с отвращением; и хотя Бек быстро научил их держаться на своих местах и не делать того, что делать нельзя, но он не мог их научить тому, что следовало делать. Они шли в упряжке неохотно.
С беспомощными и жалкими новичками и старой упряжью, измученный непрерывной работой, обоз представлял довольно плачевное зрелище.
Рано утром на другой день Бек повел длинную упряжку вдоль улицы. Не было никакого оживления, никакой молодцеватости ни в нем, ни в его товарищах. Они выезжали уже смертельно усталыми. Новички были робки и запуганы, старые же собаки не имели доверия к своим хозяевам.
Бек смутно чувствовал, что на этих людей нельзя положиться. Они ничего не умели делать, а к концу дня стало очевидно, что и научиться не могут. Все у них шло кое-как, все делалось без толку. Полвечера они теряли на то, чтобы неряшливо разбить лагерь, а пол-утра на то, чтобы убрать его и так небрежно нагрузить сани, что потом целый день приходилось останавливаться и поправлять груз. Бывали такие дни, когда они совсем не двигались с места. И ни в один день они не сделали того расстояния, которое предполагали сделать, когда вычисляли, сколько надо взять корма для собак.
С каждым днем становилось очевиднее, что пищи для собак не хватит на всю дорогу. Но они приближали этот момент, перекармливая собак. Когда измученные упряжные собаки тянули слабо, Халь решал, что обычная порция недостаточна. Он ее удваивал. Но Беку и его товарищам не пища была нужна, а отдых. Они делали не много верст, но тяжелый груз все же подтачивал их силы.
Однажды утром Халь увидел, что половина собачьего корма съедена, а проехали они всего четверть пути; кроме того он понял, что корма этого нельзя достать ни за какие деньги. Тогда он урезал обычную порцию собак, а дневные переходы старался удлинить. Давать собакам меньше пищи – это было просто, но невозможно было заставить собак пробежать большее пространство.
Шли дни за днями, а Бек все плелся вперед во главе упряжки. Он тянул, пока были силы; когда сил не было, он падал на землю и лежал, пока кнут или палка не поднимали его снова на ноги. Его великолепная шерсть утратила упругость и блеск. Она висела клочьями, покрытыми грязью и запекшейся кровью в тех местах, где палка Халя наносила раны. Его мускулы превратились в узловатые веревки, тело исчезло, так что каждое ребро ясно обрисовывалось под обвисшей кожей.
Не в лучшем виде были и остальные собаки. Они превратились в ходячие скелеты. Теперь вместе с Беком оставалось всего семь собак; остальные погибли. В своем великом бедствии они утратили всякую чувствительность к ударам кнута или палки. Боль от ударов была глухая, отдаленная, и все предметы перед их глазами и всё звуки, которые доходили до их ушей, казались тупыми и отдаленными. Они жили только на половину или на четверть. Это были просто мешки костей, в которых слабо тлела искра жизни. Когда сани останавливались, они падали между постромками, как мертвые, искорка тускнела, бледнела и, казалось, потухала. А когда палка или кнут обрушивались на них, искорка слабо вспыхивала, они поднимались на ноги и плелись вперед.
Стояла дивная весенняя пора, но ни собаки, ни люди не замечали этого. С каждым днем солнце вставало раньше и ложилось позже. Заря загоралась в три часа утра, и сумерки держались до девяти часов вечера. Мертвая зимняя тишина сменилась великим весенним шумом пробуждавшейся жизни. Этот шум поднимался отовсюду. Он исходил изо всего, что оживало и двигалось, изо всего, что было мертво и неподвижно в течение длинных морозных дней. Куропатки и дятлы шумели и долбили в лесах. Белки шуршали, птицы пели, а высоко над головами неслись журавли, летевшие с юга, мощно рассекая воздух своим стройным треугольником. С каждого холмика доносилось журчание бегущей воды, музыка невидимых фонтанов. Все таяло, поднималось. Река вздувалась, стремясь сбросить сковавший ее лед. Вода подтачивала его снизу; солнце пожирало его сверху. И среди всего этого весеннего трепета и шума, обвеваемые тихими вздохами ветра, как путники смерти, плелись двое мужчин, женщина и собаки.
Собаки почти падали, Мерседес плакала, Халь бессильно ругался; глаза Чарльза невольно наполнились слезами в тот момент, когда путники добрались до лагеря Джона Торнтона у устья Белой реки. Они стали; грохнулись на землю, как мертвые; Мерседес вытерла глаз и посмотрела на Джона Торнтона; Чарльз опустился на бревно, а Халь вступил в разговор с Торнтоном. Джон Торнтон обстругивал топорище, которое сделал из березового дерева. Он строгал, слушал и давал односложные ответы.
– Нам уже говорили, что дорога подтаивает снизу и что лучше всего нам остановиться, – сказал Халь в ответ на предупреждение Торнтона не рисковать проездом по непрочному льду. – Нам тоже говорили, что мы не проедем Белой реки, а вот мы где!
В последних словах звучало насмешливое торжество.
– Вам говорили правду, – отвечал Торнтон: – лед может тронуться каждую минуту. Только дураки со слепым счастьем дураков могли это сделать. Прямо говорю: я бы не рискнул своей шкурой на этом льду за все золото Аляски.
– Это, вероятно, потому, что вы не дурак, – сказал Халь. – Все равно, мы поедем в Даусон. – Он размахнулся кнутом. – Эй, Бек, вставай, вставай!
Торнтон продолжал молча строгать.
Но упряжка не поднималась по команде. Уже давно она пришла в такое состояние, что поднять ее могли только удары. Кнут хлестал беспощадно. Торнтон сжал губы. Наконец одна из собак кое-как стала на ноги, за ней другая и третья. Один Бек не делал никаких усилий. Он неподвижно лежал там, где упал. Снова и снова хлестал кнут, – он не визжал и не двигался. Несколько раз Торнтон делал движения, точно желая заговорить, но всякий раз удерживался. Истязание Бека продолжалось; Торнтон встал и нерешительно заходил взад и вперед.
В первый раз Бек отказывался от работы, и этого было достаточно, чтобы привести Халя в бешенство. Он заменил кнут палкой. Бек не двигался и под градом более жестоких ударов, которые сыпались на него теперь. Подобно своим товарищам, он мог бы все-таки сделать последнее усилие и встать на ноги, но он решил, что не встанет. У него было смутное предчувствие неминуемого бедствия. Он целый день чувствовал под ногами тонкий рыхлый лед, теперь он чувствовал беду вблизи, там, на льду, куда его гонят. Он так сильно страдал, так ослаб, что удары не причиняли ему большой боли. И пока они еще продолжали сыпаться на него, искорка жизни внутри задрожала и померкла. Она почти потухла. На него нашло отупение. Последнее ощущение боли исчезло. Он уже ничего не чувствовал, и только слабо слышал, как отдаются удары палки об его тело.
Вдруг без всякого предупреждения, с нечленораздельным возгласом, походившим на крик животного, Джон Торнтон кинулся на человека, махавшего палкой. Халь упал навзничь, точно его деревом пришибло. Мерседес вскрикнула. Чарльз посмотрел внимательно, вытер свои слезящиеся глаза, но не встал, – такое он чувствовал онемение во всех членах.
Джон Торнтон стоял над Беком в таком безумном бешенстве, что говорить не мог.
– Если ты ударишь еще раз эту собаку... я тебя убью! – смог он наконец выговорить хриплым голосом.
– Это моя собака, – отвечал Халь, вытирая кровь на губах, – Убирайся с дороги или тебе несдобровать...
Торнтон стоял между ним и Беком и не обнаруживал намерения уйти с его дороги. Халь вытащил свой длинный охотничий нож. Торнтон ударил по пальцам Халя топорищем и выбил нож из его руки. Он ударил его еще раз по рукам, когда тот вздумал поднимать нож. Потом нагнулся сам, поднял нож и двумя взмахами перерезал обе постромки Бека.
У Халя не оставалось энергии, чтобы продолжать борьбу. К тому же у него на руках была сестра, а Бек, почти мертвый, все равно не мог тащить саней.
Через несколько минут они спускались с берега, в реку. Бек слышал, что они уезжают; он поднял голову и посмотрел им вслед.
Торнтон между тем стал около него на колени, ощупывал своими загрубелыми руками, нет ли у него переломанных костей. У Бека оказалось только несколько ран и страшное истощение; а сани тем временем успели отъехать на четверть мили от них. И человек и собака видели, как они ползли по льду. Вдруг они оба увидели, как задняя часть саней опустилась точно дышло в жолоб, и Халь подпрыгнул в воздух. До них донесся крик Мерседес. Они видели, что Чарльз повернулся и сделал шаг назад, потом огромная глыба льда опустилась, и все исчезло – собаки и люди. Виднелась только зияющая дыра.
Джон Торнтон и Бек посмотрели друг на друга.
– Ах ты, бедная животина, – сказал Джон Торнтон, и Бек лизнул его руку.
Когда Джон Торнтон в декабре отморозил себе ноги, товарищи устроили его поудобней и оставили поправляться, а сами отправились вверх по реке за плотом пильного леса для отвозки в Даусон. Он еще прихрамывал в тот момент, когда выручил Бека, но с наступившим теплом даже это слабое прихрамывание исчезло. И Бек, лежа длинными весенними днями на берегу реки, смотря на текущую воду, лениво слушая пение птиц и гудение природы, медленно восстанавливал свои силы.
Отдых приятен после путешествия в три тысячи миль, и надо признаться, что Бек становился все ленивее по мере того как раны его залечивались, мускулы набухали и мясо нарастало на костях. Все они бездельничали – Бек, Джон Торнтон, Скит и Ниг, – ожидая плота, который должен был везти их в Даусон. Скит, маленький ирландский сеттер, раньше всех подружился с Беком, который в состоянии близком к смерти не способен был чувствовать первых выражений дружбы. У Скита были медицинские способности, которыми обладают некоторые собаки: как кошки чистят своих котят, так он облизывал и очищал раны Бека. Регулярно, каждое утро, докончив свой завтрак, Скит выполнял эту добровольно на себя взятую обязанность, так что в конце концов Бек ежедневно ожидал его услуг, как и услуг Торнтона. Ниг, тоже очень приветливый, был большой черный пес смешанной породы, со смеющимися глазами и бесконечно добродушный.
К удивлению Бека, эти собаки не выказывали никакой зависти. Когда Бек окреп, они увлекали его во всякие веселые игры, от участия в которых и Торнтон не мог удержаться. Так Бек пережил свою болезнь и вступил в новую жизнь. На долю Джона Торнтона выпало возбудить в нем лихорадочную, жгучую любовь, любовь, которая была безумным обожанием.
Этот человек спас ему жизнь, но кроме того он был необыкновенным хозяином. Другие люди заботились о благосостоянии своих собак из чувства долга и по деловой необходимости; этот человек заботился о своих собаках, точно они были его детьми, потому что иначе он и не мог. Он делал и больше. Он никогда не забывал сказать им доброе приветствие или веселое слово, а сесть и вести с собаками долгую беседу ему доставляло такое же удовольствие, как и им. Он имел привычку брать Бека за голову, класть свою голову на него и раскачивать Бека взад и вперед, называя его всякими ругательными именами, которые для Бека были словами любви. Не знал Бек высшей радости, как это суровое объятие и ласкающий звук ругательных слов; при каждом толчке взад и вперед сердце Бека готово было выскочить из груди, – так велик был его восторг. А когда, отпущенный на свободу, Бек отпрыгивал и стоял неподвижно, со смеющимся ртом, когда глаза его говорили, когда в горле у него дрожали невысказанные звуки, Торнтон с почтением восклицал:
– Эх, животина! Только говорить ты не умеешь!
У Бека был свой способ выражения любви, доходивший до причинения боли. Он часто хватал ртом руку Торнтона и сжимал ее зубами, так сильно, что следы их долго оставались на коже. И точно так же, как Бек понимал, что ругательные слова – это слова любви, так и человек понимал, что притворный укус – ласка.
Бек мог по целым часам, внимательный и оживленный, лежать у ног Торнтона и смотреть на его лицо, не спускать с него глаз, изучать его, следить с живейшим интересом за каждым мимолетным выражением, за каждым движением или изменением в его чертах. Или, при случае, он ложился дальше и смотрел на общее очертание человека, следил за всеми движениями его тела. Так велико было общение между ними, что часто сила взгляда Бека заставляла Торнтона обернуться; он без слов смотрел на Бека, и сердце его светилось во взгляде, как сердце Бека светилось в его собачьих глазах.
Когда приехали на давно ожидаемом плоту товарищи Торнтона, Ханс и Пит, Бек совершенно не признавал их, пока не понял, что они близки с Торнтоном; после этого он только выносил их, принимая их любезности, так, как будто сам оказывал им любезность. Они оба принадлежали к тому же роду людей, как и Торнтон: жили близко к земле, думали просто и видели ясно; и еще прежде чем ввести свой плот в широкое русло лесопильни в Даусоне, они поняли Бека, его характер и не добивались от него той дружбы, в которой жили со Скитом и Нигом.
Любовь Бека к Торнтону все росла и росла. Один он мог привязать тюк на спину Бека во время летних переходов. Не было вещи, которой Бек не сделал бы, когда Торнтон приказывал. Однажды, на пути из Даусона к истокам Танана, люди и собаки сидели на хребте утеса, отвесно падавшего на обнаженное каменистое русло реки на сто метров вниз. Джон Торнтон сидел у края; Бек был около него. Необдуманный каприз охватил Торнтона, и он обратил внимание Ханса и Пита на опыт, который он задумал сделать.
– Бек, прыгай! – приказал он, протягивая руку над бездной. Через мгновение он боролся с Беком на краю утеса, пока Ханс и Пит не оттащили их обоих назад в безопасное место.
– Это безумство, – сказал Пит, когда все кончилось, и они смогли говорить.
Торнтон покачал головой.
– Нет, это удивительно и страшно. Вы знаете, это иногда пугает меня.
– Я бы не согласился быть человеком, который напал бы на тебя, когда Бек неподалеку, – объявил Пит, кивая головой на собаку.
– Клянусь трубкой, – подтвердил Ханс, – я бы не согласился.
Не прошло года, как опасения Пита подтвердились. «Черный Бертон», человек дурного характера и злобный, подрался в кабаке с новичком, приехавшим из Европы, а Торнтон добросердечно начал их разнимать. Бек по обыкновению лежал в углу, положив голову на лапы, не спуская глаз с хозяина. Бертон без предупреждения ударил Торнтона с плеча. Торнтон опрокинулся и не упал только потому, что успел ухватиться за стойку.
Присутствовавшие услыхали не лай и не вой, а старее рыкание, и увидели, как тело Бека взвилось на воздух и кинулось к горлу Бертона. Он спасся от смерти только тем, что инстинктивно защищался рукой, но был сброшен на пол, и Бек очутился на нем. Бек выпустил руку и опять кинулся к горлу. На этот раз человек успел защититься только наполовину, и горло его было страшно укушено. Толпа бросилась на Бека, отогнала его. Пока доктор останавливал кровотечение, Бек бродил взад и вперед, свирепо рычал и делал попытки снова броситься на врага; его удерживал лишь отряд вражеских палок. На немедленно созванном собрании рудокопов решили, что собака имела достаточные основания рассердиться, и Бек был оправдан. Но репутация его была установлена, а имя его стало известно в каждой стоянке Аляски.
Позднее, в конце года, он спас жизнь Торнтона совершенно иначе. Три товарища спускали длинную и узкую барку в опасном месте на порогах Сорокамильного ручья. Ханс и Пит шли вдоль берега и удерживали барку тонкой бечевой, перекидываемой с дерева на дерево, а Торнтон плыл в лодке, помогая багром и выкрикивая приказания на берег. Бек, озабоченный и встревоженный, держался на берегу на одной линии с баркой и не спускал глаз с хозяина.
В одном особенно опасном месте, где ряд едва покрытых водою утесов вдавался в реку, Ханс отпустил веревку и, пока Торнтон направлял багром лодку в поток, бежал вдоль берега, чтобы удерживать лодку всякий раз, когда он минует скалу. Барка прошла скалы и неслась вниз по течению с огромной быстротой; Ханс задержал ее веревкой, но задержал слишком внезапно. Барка опрокинулась и ударилась в берег, а Торнтона выбросило в воду и несло течением к самой худшей части порогов, к стремнине, где никакой пловец не мог остаться живым. Бек мгновенно кинулся в воду и на расстоянии трехсот ярдов, среди бешеного круговорота, перегнал Торнтона. Когда он почувствовал, что Торнтон ухватился за его хвост, он направился к берегу и греб всей своей мощной силой. Но к берегу он подвигался медленно, а течением вниз их несло с устрашающей быстротой. Снизу доносился грохот; там вода неслась еще неистовей, пенилась, разбивалась об утесы, которые торчали, как зубья громадного гребня, и Торнтон понял, что берега достигнуть невозможно. Он тщетно пытался уцепиться за один утес, пронесся мимо второго и наконец отчаянным усилием ухватился за третий. Он обхватил его скользкую верхушку обеими руками, выпустил Бека и среди рева воды закричал:
– Назад, Бек, назад!
Бек не мог держаться на месте, его несло вперед; он отчаянно боролся, но плыть назад не мог. Когда он услышал повторное приказание Торнтона, он высунулся из воды, высоко поднял голову, как бы желая бросить на него последний взгляд, потом послушно повернул к берегу. Он плыл с невероятными усилиями. Пит и Ханс вытащили его на берег как раз в том месте, ниже которого плыть было уже совершенно невозможно и где грозила верная смерть.
Они знали, что держаться за скользкий утес на страшном течении можно лишь несколько минут, и по берегу кинулись бежать, от утеса, вверх по течению. Они привязали веревку на шею и плечи Бека, так, чтобы она не душила и не мешала ему плыть, и бросили его в поток. Бек поплыл бодро, но взял недостаточна прямо. Он заметил свою ошибку поздно, когда Торнтон был почти рядом с ним, когда довольно было несколько раз гребнуть, чтобы добраться до него, но течение безнадежно протащило Бека мимо.
Ханс немедленно дернул веревку, как будто Бек был лодкой. Веревка натянулась и потащила его против течения; он погрузился в воду и оставался под водой, пока тело его не вытащили на берег. Он захлебнулся; Ханс и Пит кинулись к нему, делали искусственное дыхание. Он встал на ноги, но снова упал. С потока едва слышно доносился голос Торнтона, и хотя они не могли различить слов, но понимали, что он был в последней крайности. Голос хозяина подействовал на Бека, как электрический ток. Он прыгнул на ноги и побежал по берегу впереди людей, к той точке, откуда его кинули в воду в первый раз.
Снова привязали веревку, снова Бека бросили, и снова он пустился вплавь, но на этот раз прямо. Он ошибся раз, но не мог ошибиться два раза. Ханс отпускал веревку, а Пит следил, чтобы она нигде не цеплялась. Бек держал прямо вперед, пока не очутился на одной линии с Торнтоном; тогда он круто повернул и с быстротой экстренного поезда донесся по течению до Торнтона, который увидал его приближение. Когда Бек налетел на него, он отпустил утес и обеими руками обнял косматую шею. Ханс, укрепил веревку к дереву. Бека и Торнтона покрыло водой. Барахтаясь и задыхаясь, один на другом то сверху, то снизу, волочась по зубчатому дну, ударяясь о скалы и коряги, они кое-как выбрались, или, вернее, были кое-как вытащены на берег.
Придя в себя, Торнтон прежде всего посмотрел на Бека; над его с виду безжизненным телом протяжно выл Ниг; Скит лизал его мокрую морду и закрытые глаза. Торнтон сам был избит и измучен, но сейчас же начал ощупывать Бека и нашел у него три переломленных ребра.
– Этим все сказано, – объявил он. – Мы становимся тотчас лагерем.
И они стояли лагерем, пока ребра Бека не зажили и он не был снова способен путешествовать.
В эту же зиму в Даунасе Бек совершил новый подвиг, не столь героический, но поднявший еще выше его славу в Аляске. Этот подвиг был особенно выгоден для трех товарищей. Они очень нуждались в деньгах, Бек им доставил их, и это позволило им пуститься в давно желанное путешествие на девственный восток, где еще не было рудокопов. Случилось это после одного разговора в кабаке «Эльдорадо», где люди хвастались своими любимыми собаками. Через полчаса разговора один из присутствующих объявил, что его собака может сдвинуть сани с грузом в двести кило и повезти их; другой говорил, что его собака может сдвинуть двести пятьдесят, и третий дошел до трехсот.
– Пфа! – сказал Торнтон. – Бек может сдвинуть четыреста кило!
– И сдвинуть сани и провезти груз шагов на сто? – спросил Мэтьюсон, «король Бонанца», – тот, который говорил о трехстах кило.
– И сдвинуть сани и провезти груз шагов на сто, – хладнокровно повторил Торнтон.
– Хорошо, – сказал Мэтьюсон медленно и громко, так, чтобы все это слышали, – у меня есть тысяча долларов, которые отвечают за то, что этого он сделать не может. Вот они! – и он швырнул на стойку мешок с золотым песком.
Все молчали. Вызов Торнтона, – если считать это вызовом, – был принят. Он чувствовал, как прилив теплой крови ползет у него по щекам. Он сболтнул, он не знал, может ли Бек сдвинуть четыреста кило! почти полтонны! Громадность этой тяжести теперь ужасала его. Он верил в силу Бека; ему часто приходило в голову, что он способен сдвинуть такой груз; но никогда ему не приходилось, как теперь, стоять перед неизбежностью этого испытания под упорными взглядами двенадцати охотников, которые молча смотрели и ждали. Кроме того, у него не было тысячи долларов; не было их ни у Ханса, ни у Пита.
– У меня стоят сани, нагруженные таким количеством муки, – продолжал Мэтьюсон с грубой прямотой, – так что препятствий нет.
Торнтон не отвечал. Он не знал, что сказать; он перебегал глазами с одного лица на другое с растерянным видом человека, потерявшего способность думать и ищущего что-нибудь, что заставило бы мысли снова работать. Глаза его упали на лицо Джима О’Бриена, его старого товарища. Это подсказало ему нечто, заставило его сделать то, о чем он никогда не мечтал.
– Ты можешь ссудить мне тысячу? – спросил он почти шепотом.
– Конечно, – отвечал; О’Бриен, швыряя полный мешок рядом с мешком Мэтьюсона, – хотя я, Джон, плохо верю, чтобы Бек мог это сделать.
«Эльдорадо» быстро опустело: все посетители шли на улицу смотреть на опыт. Столы опростались, торговцы и охотники гурьбою высыпали наружу, чтобы следить за пари и биться об заклад между собою.
Наконец собралось несколько сот человек, закутанных в меха; в меховых рукавицах, все они толпились на некотором расстоянии от саней. Сани Мэтьюсона, нагруженные четырьмястами кило муки, уже часа два стояли на месте на сильном холоде, – было шестьдесят градусов мороза, – и полозья крепко примерзли к плотно убитому снегу. Многие ставили два против одного, что Бек не сдвинет саней. Возникло пререкание по поводу слов «сдвинуть сани». О’Бриен утверждал, что Торнтон может сбить примерзшие полозья и потом предоставить Беку «сдвинуть сани» с места. Мэтьюсон настаивал на том, что выражение «сдвинуть сани» предполагает – сдвинуть полозья. Большинство людей, присутствовавших при начале пари, решили спор в пользу Мэтьюсона, после чего начали ставить три против одного за Мэтьюсона.
Никто не ставил за Бека. Ни один человек не считал его способным выдержать искус. Торнтон увлекся и уже при начале пари был полон сомнений, но теперь, когда он посмотрел на сани, с длинной упряжкой в десять собак, растянувшихся гуськом на снегу, задача показалась ему совершенно невозможной. Мэтьюсон сиял и безмерно радовался.
– Три против одного! – провозгласил он. – Я поставлю еще тысячу на этих условиях. Торнтон, что скажете?
Сомнения Торнтона были написаны на его лице; но в нем поднялся дух задора. Он подозвал Ханса и Пита. Их кошельки были довольно тощи, и все три товарища вместе едва набрали двести долларов. Эта сумма составляла весь их капитал, но они без колебания поставили ее против шестисот долларов Мэтьюсона.
Упряжку в десять собак отпрягли, и Бека впрягли в сани в его собственной сбруе. Он заразился общим возбуждением и чувствовал, что каким-то образом должен совершить нечто большое для Джона Торнтона. Ропот восхищения пронесся в толпе перед его удивительной статностью. Он был в отличном состоянии: ни грамма лишнего жира, но его шестьдесят кило веса составляли сплошь мощь и силу. Шерсть блестела, как шелк. Широкая грудь и тяжелые лапы были в полном соответствии с остальным телом, на котором упругими выступами виднелись под кожей мускулы. Присутствовавшие ощупали эти мускулы и объявили, что они тверды, как железо; ставки упали снова на два против одного.
– Господи, сэр, господи, – кричал один из зрителей, по прозванию «король Скатум-Бенча». – Я предлагаю за него восемьсот, сэр, перед пари, восемьсот, сэр! Вот сейчас, пока он не тронулся.
Торнтон покачал головой и подошел к Беку.
– Вы должны отойти от него, – сказал Мэтьюсон, – игра в открытую.
Толпа смолкла; слышны были только голоса игроков, предлагавших два против одного. Все признавали, что Бек – животное великолепное; но двадцать мешков муки представлялись грузом слишком большим, чтобы развязывать кошельки.
Торнтон встал на колени около Бека. Он взял его голову в руки и прижался щекою к его щеке. Он не раскачивал его, по своему обыкновению, и не говорил ему любовных ругательств, но шептал ему что-то на ухо. «Если ты меня любишь, Бек, если ты меня любишь»... – вот что он ему шептал. Бек взглянул на него со сдержанной пылкостью.
Толпа смолкла. Дело становилось загадочным. Казалось, совершается какое-то колдовство. Когда Торнтон встал на ноги, Бек схватил зубами его руку, на которой была рукавица, куснул ее и медленно, почти робко выпустил. То был его ответ, выраженный не словами, а чувством любви. Торнтон отошел от него.
– Ну, Бек! – сказал он.
Бек сильно натянул постромки, потом отпустил их. Он, очевидно, пробовал, что нужно делать.
– Джи! – резко прозвучал голос Торнтона среди напряженного молчания.
Бек двинулся вправо, туго натянув постромки, груз задрожал, а под полозьями захрустело.
– Хау! – командовал Торнтон.
Бек повторил то же движение, но на этот раз влево. Хруст превратился в треск, сани медленно повернулись на полозьях на несколько дюймов в сторону. Они были сдвинуты. Люди притаили дыхание, еще не понимая, что происходит.
– Теперь марш!
Команда Торнтона раздалась, как пистолетный выстрел. Бек ринулся вперед, натягивая постромки дрожащим толчком. Все его тело сжалось в одном огромном усилии, мускулы скручивались узлами, бегали под шелковистой шерстью, как живые. Широкая грудь низко jпустилась к земле, ноги неистово топтались и дрожали. Одна нога Бека скользнула, и кто-то громко вздохнул. Потом сани двинулись вперед, как бы рядом быстрых толчков, но на самом деле перерывов в движении не было... полдюйма... дюйм... два дюйма.. Толчки постепенно удлинялись, и наконец сани начали ровно двигаться вперед...
Люди ахнули и снова начали дышать; они не заметили, что был такой момент, когда они совсем не дышали. Торнтон бежал позади, поощряя Века короткими, бодрыми словами. Расстояние было отмерено, и по мере того как Бек приближался к куче дров, обозначавшей расстояние в сто шагов, в толпе поднимались и росли радостные крики, которые превратились в рев, когда он перешел за кучу и остановился по команде. Все ликовали, не исключая Мэтьюсона. Шапки и рукавицы летели в воздух. Люди пожимали друг другу руки без всякой причины, и крик перешел в общий бессвязный говор.
А Торнтон опустился на колени около Бека. Он прижал свою голову к его голове и раскачивал ее взад и вперед. Те, которые подбежали к нему, слышали, как он ругал Бека, и он ругал его долго и убежденно, нежно и любовно.
– Господи, сэр, господи! – суетился «король Скутум-Венча». – Я вам даю за него тысячу, сэр, тысячу, сэр... тысячу двести, сэр...
Торнтон встал на ноги. Он плакал. Слезы неудержно текли по его щекам.
– Сэр, – сказал он «королю Скутум-Бенча», – нет, сэр, убирайтесь к порту. Это все, что я могу сделать для вас, сэр...
Бек схватил руку Торнтона зубами. Торнтон раскачивал его взад и вперед. Охваченные одним и тем же чувством, все присутствующие удалились на почтительное расстояние, и уже никто не позволял себе нескромного вмешательства.