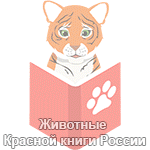Дружок
Автор: В. Губаревич, 1912 г.
Это был простой дворовый пес и принадлежал он дачному дворнику в Павловске, около Петербурга. Белый, гладкий, уши и хвост черные, а морда такая добрая и доверчивая и так умильно глядит он своими блестящими глазами прямо вам в глаза, что всякий невольно говорит: «экий ты славный пес!» Выйдет он из ворот на улицу, всякий его зовет, всякий его ласкает, все ему что-нибудь дают и он не отказывался, обжора был страшный и готов был глотать и хлеб, и мясо, и картофель, и конфеты. И то сказать, впрочем, ведь он целую зиму голодал, когда дачники разъезжались, и он со сторожем оставался караулить заколоченные дачи. Начнутся морозы, Дружок совсем похудеет, шерсть отрастет у него длинная, мохнатая, жесткая, но вот настанет лето, соберутся дачники и для собаки наступает непрерывный праздник; он отъедается, облиняет, залоснится и разжиреет. Я его очень любила, каждый год он узнавал меня и радовался мне, и мне каждый год к отъезду удавалось его так раскормить, что он становился похожим на фаршированного поросенка.
Я была злой девочкой и требовала от Дружка за свою заботу услуги. Когда я гуляла в нашем саду, и мимо нас проезжал или проходил, кто-нибудь я тихонько науськивала Дружка, и тот нёсся с сумасшедшим лаем, прохожий, конечно, смертельно пугался, ведь Дружок был большой и сильный. Я хохотала исподтишка и потом, насладившись смятением, выходила на улицу и принимала на себя роль спасительницы и отгоняла Дружка. Милый, добрый пес, он весело бежал ко мне и спрашивал меня своими умными глазами: «Хорошо ли, так ли?»
Бедный, глупый песик, из благодарности ко мне за мой корм он облаивал своих же прежних благодетелей.
Я начинала его для виду бранить, но когда прохожие скрывались из виду, я шептала ему: «Хорошо, Дружок, молодчина, так и надо».
Тот неистово прыгал, носился и визжал от радости...
Однажды, мимо нас проезжал кто-то в экипаже, я шепнула Дружку, он бросился, но не успел он еще и залаять, как кучер ударил его кнутом. Лошадь испугалась, шарахнулась и Дружок мелькнул между колес. Раздался страшный визг, экипаж промчался, я бросилась к Дружку, он лежал покрытый кровью и пылью. Я наклонилась над ним:
– Дружочек, голубчик, что с тобой, покажи, где тебе больно!
Но пес был неузнаваем, он поднял голову, заворчал и оскалил зубы, глаза его выражали упрек, он смотрел на меня такими страшными глазами, что я так и застыла. Он презирал меня, я это понимала. Я попробовала протянуть к нему руку, он зарычал и щелкнул зубами, он угрожал, глаза его горели... Он говорил: «Гадкая, злая девчонка, убирайся, не смей меня жалеть, я не хочу!..» Что мне было делать! Наконец, он встал с визгом и стоном, он мог стоять на трех ногах, четвертую, окровавленную, он держал на воздухе, и поплелся домой; его стоны резали мне сердце, и я проливала горькие слезы, я затыкала уши, но визг проникал всюду. Наконец, он умолк. Проходил дворник.
– Ах, Иван, ты слышал? бедный Дружок! ведь ему переехали лапку.
– И поделом ему и так уж соседи роптать начали, проходу, мол, не дает, заелся...
– Он ни в чем не виноват. Это я его науськиваю.
– А у него своего ума, что ли, нет? Видит, дите глупое, играет, а он и рад!
– Я бы ему ногу перевязала, не даст?
– Теперь он одичал, погоди, утихнет боль, тогда можно. Сейчас он лапу зализывает – лечит, они да кошки умеют кровь останавливать! Заживет, не плачь, он залижет...
Я скиталась в тоске, наконец, наступили сумерки. Дружок забился в сарай, лежал в углу на стружках; я не смела подойти к нему и остановилась у порога. На этот раз он не заворчал, он только грустно поглядел на меня и отвернулся. Я подошла на цыпочках, погладила его тихонько, он все упорно глядел в сторону. Я сбегала домой принесла бинты и карболовое масло, все это осталось с того времени, когда лечили однажды руку кухарке, и присела около Дружка. Он не глядел на меня, но и не ворчал, я намазала ему больную лапу и перевязала, он позволил, он даже слушал мои слова: «Ну, бедный Дружок, ну, прости меня, я ведь не знала, я никогда больше не буду». Наконец, я взяла его голову и повернула к себе. Он заморгал, задергался, и вдруг ткнул свой нос в мою щеку...
Ура!.. мир заключен, Дружок помахивал хвостиком и слегка повизгивал. Я сбегала и принесла молока. Он лакал, но, видимо, у него был жар, нос был горячий. Приближалась ночь; что же делать, нельзя же его здесь оставить одного, больного, беспомощного. Ночью будет холодно, а у него и без того лихорадка...
Я стала звать его с собой, но он не мог идти. Я подхватила его под грудь и кое-как поволокла в свою комнату, там стояло большое старое кресло. Кое-как я уложила Дружка на продавленное, но мягкое сиденье и укрыла ковриком так, что его и не видно было. Дружок был сконфужен, он робел, ведь он никогда не был в комнатах... Но лежал смирно... Я спала тревожно, просыпалась, мне казалось, что Дружок умирает, и я бегала к нему, но он крепко спал и только изредка стонал сквозь сон.
Я пообещала Богу, если Дружок будет жить, никогда не учить собак, и не только собак, но и никого, ничему злому, после этого я уснула крепко.
Когда я проснулась, солнышко светило нам в окно. Дружок поднял голову и смотрел на меня с кресла.
– Дружочек!
Он повилял хвостиком, я подбежала к нему, он полизал мне руки.
Я помчалась за завтраком для больного, но глупая кухарка не хотела понять, что раненому надо хорошее питание. Пришлось украсть из буфета булку.
Впрочем, больной ел с аппетитом, он даже сошел с кресла и прошелся в сад, но скоро вернулся на свое кресло. Он так привык к месту, что почти не сходил с мягкого сиденья, и туда подносила я ему всяческие яства.
Старшие говорили мне, что собаку пора выгнать в сарай, лапу разбинтовали, снаружи ранка зажила, но бедный пес не мог на эту лапу ступать, и как же можно было калеку выгнать в сарай! Пусть живет пока лапка совсем не заживет.
– Барышня, да ведь он притворяется, верьте вы ему!
– Разве может собака лгать или притворяться, вот пустяки, это только люди хитрят! – отвечала я.
Им хорошо говорить, у них совесть чиста, они не виноваты в его несчастии, совсем другое я!..
Однако становилось, действительно, странно.
Снаружи нога была совершенно здорова, место, где была ранка, даже шерстью заросло, а он все лежит в кресле и не «выписывается из больницы», как говорит дворник. С трудом сползет, сходит на улицу на минуту и опять идет назад и при том еще стонет; хвост опустит, голову повесит, такой бедненький, едва-едва держится на своих трех ногах, четвертую все на весу держит, даже ступить на нее не может. Подойдет к креслу, сядет да еще повизгивает, чтобы я его подсадила.
«Ну можно ли так притворяться? Нет, нет и нет!» – думала я.
Я измучилась, думая о будущем Дружка, ведь дворник не захочет держать больную собаку...
Однажды, погруженная в грустные думы сидела я у окна; Дружок медленно, на трех ногах, спустился с крыльца и сел на последней ступеньке. В это время соседская кошка, расхрабрившись, впрыгнула в сад. Дружок сорвался с места, с лаем бросился на нее и, забывая обо всем, несся на всех четырех ногах. Кошка вскочила на забор. Дружок с визгом стал прыгать около забора, царапаясь за забор больной лапой. Кошка скрылась назад, по ту сторону забора, и Дружок, взрыв землю задними лапами, побежал, весело задрав свой хвост, на улицу.
Я замерла от негодования и удивления:
– Ах, он обманщик!
Дружок в это время уже возвращался, он опять прихрамывал и как только подошел к крыльцу, так сейчас же опустил голову, повесил уши и хвост, приподнял переднюю больную лапу, увидав меня, он слегка застонал и сел у кресла, будто бы он не может на него вскочить.
Я делала вид, что не вижу, тогда он со вздохом забрался сам на свое ложе.
На ночь его выдворили в его будку, и он вступил в исполнение своих сторожевых обязанностей, но днем приходил еще поспать в «своем кресле».
Милый, добрый, славный Дружок. Мы вскоре уехали из Петербурга и я больше его не видала...