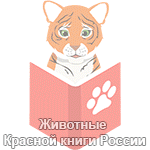Канарейка
Автор: И. Любич-Кошуров, 1901 г.
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава I
Был он старый, старый, и голова у него была совсем лысая, только сзади на затылке висели жиденькие седые косички.
А лицо у него было худое, с ввалившимися щеками, желтое и все в мелких морщинках: и особенно много было морщинок на висках и под глазами.
И в углах рта тоже были две глубокие морщины, а зубов у него давно уж не было, и от этого губы, тонкие и бескровные, всегда были сжаты и немного выпячивались вперед, и все лицо казалось грустным, грустным...
Звали его Николай Иванович.
Он был учитель рисования и всегда приходит на урок в белой крахмаленной сорочке и форменном фраке с гербовыми медными пуговицами; только фрак у него был очень поношенный, выцветший на спине и плечах, а белые твердые манжеты и манишка еще сильней оттеняли темную, коричневатую кожу на руках и на шее. И шея у него тоже была вся в морщинах, словно высохшая, длинная и тонкая.
В рисовальном классе всегда пахнет чем-то особенным, старой ли, залежавшейся бумагой, гипсовой ли, карандашной ли пылью, или чем иным... И они, всегда носил с собою этот запах, – этот человек, проживший пол жизни между папками, рисовальной бумагой и гипсовыми фигурами и масками.
И весь он в своем старом фраке, сгорбленный, морщинистый, желтый, был такой жалкий, никому не нужный, как старая запылившаяся мебель, брошенная за негодностью к употреблению.
Его, правда, как будто и не замечали в гимназии.
Казалось, он сам сознавал, что он лишний и старый и отжил свой век, и никому не нужен...
Он и в учительскую комнату почти не заходил. Ему, вероятно, было лучше одному, и он даже на переменах оставался в классе и все ходил взад и вперед тихими шагами, спрятав руки за спину и опустив голову. Родных у него не было; не было и знакомых; даже не всех учителей он знал по именам, потому что учителя были все моложе его и держались своим кружком, а его сторонились; и он тоже ни с кем никогда не заговаривал и не заводил знакомства!
Даже про свою квартирную хозяйку он знал только, что ее зовут Верой Сергеевной, а больше ничего.
Вера Сергеевна была добрая женщина, и он ей всегда был жалок: она часто думала, отчего он постоянно один и нет у него знакомых и ничего ему не нужно, о чем хлопочут другие люди...
Только ей казалось, что он стал таким от старости, что душа у него тоже состарилась: если даже и пожалеть его и приласкать, то он все равно не откликнется на ласку, потому что не поймет ласки.
И она тоже не пыталась сблизиться с ним и делала только то, что должна делать каждая хорошая квартирная хозяйка: ставила ему самовар, чистила сапоги, убирала комнату, так как прислуги у нее не было, и она все делала сама.
И он со своей стороны тоже будто не замечал ее.
Раз, в начале весны, он шел по птичьему рынку. Был праздник, по площади сновало много народу. За народом не было видно клетушек с птицей; только птичьи голоса смутно слышались сквозь людской говор.
Изредка из толпы вдруг выскакивал мальчишка с голубем, или другой какой птицей в руках и опять пропадал в толпе; выходил мужик с гусем подмышкой, останавливался и оглядывался по сторонам, высматривая, не подойдет ли покупатель, и гладил гуся ладонью по шее или осторожно забирал его голову в кулак и пригибал к себе, когда гусь начинал вертеть шеей и биться, порываясь на волю.
Где было попросторней, ходили разносчики с квасом, пирогами, или жареной колбасой в жестяных коробках. Все разносчики были подпоясаны белыми полотенцами, или в белых фартуках, заткнутых с угла за пояс, и громко выкрикивали свой товар. Шум и гам не умолкали ни на минуту; к этому еще примешивался грохот экипажей по мостовой и, через равные промежутки, звонки конок, и гул их колес по рельсам.
Николай Иванович, с трудом пробирался в толпе. Ему хотелось поскорей уйти отсюда, от этой толпы и суеты. Они раздражали его до болезненности, и ему казалось, что это он и устал и ослаб так потому, что кругом шум, крик и суета.
А за Николаем Ивановичем, не отрывая от него глаз, проскальзывая между разносчиками, между ларями и плетушками с птицей и телегами с садовыми присадками, бежал мальчик в широком не по росту пиджаке и причитал тоненьким просящим голоском, то и дело проводя рукавом пиджака по лбу и щекам, чтобы вытереть пот:
– Дяденька! а дяденька, купите...
В руках у мальчика была маленькая клетка с канарейкой, и всякий раз, как он настигал Николая Ивановича совсем близко, он замедлял шаги, протягивал руку с клеткой и выжидающе смотрел ему в спину, точно он ожидал, что Николай Иванович вот-вот обернется и что-нибудь скажет ему.
Николай Иванович не мог его видеть, так как мальчик не решался забежать ему вперед, а только раз или два поравнялся с ним, но сейчас же опять отступал, и снова начинал, не понижая и не повышая голоса:
– Дяденька... а дяденька...
За шумом на площади Николай Иванович не слыхал даже слов его и не мог разобрать, о чем он просит, он только по тону догадался, что мальчик просит о чем-то: просит жалобно, настойчиво, как нищий.
И это тоже его раздражало.
Вдруг он остановился и повернулся к мальчику.
Если бы это был нищий, Николай Иванович, все равно ему ничего бы не сказал и только постучал бы палкой о землю, а потом пошел бы дальше. Нищие у Николая Ивановича были свои, знакомые: один безногий около гимназии, друзой в соборе на паперти, в старой солдатской шинели, седой, бритый, с двумя медалями. Николай Иванович давно их знал, с тех пор, как стал ходить в гимназию, и всегда подавал им двадцатого числа, когда получал жалованье.
А больше он никому не подавал.
– Купите... дяденька! – заголосил мальчик, как только Николай Иванович обернулся к нему. Он прямо смотрел в лицо и в глаза Николаю Ивановичу и сейчас же спросил, едва тот зашевелил губами: – а?
Но Николай Иванович ничего не говорил: он только старчески жевал губами, постукивал, своей палкой и тряс головою. Когда он волновался, он долго не мог справиться с собою; а тут еще шум мешал ему говорить.
А мальчик, не отрываясь, глядел на него и думал, что Николай Иванович что-то говорит ему, только он не слышит, и старался угадать по лицу, что он говорит – хочет ли, или нет, купить канарейку.
– Купите, она хорошая... Дяденька...
– Чего тебе? – произнес наконец Николай Иванович, оперся на палку и стал тяжело дышать.
– Канарейку купите, дяденька! Вот...
Николай Ивановича, отрицательно покачал головою и даже не взглянул на канарейку. У мальчика вдруг будто что-то дрогнуло в лице, когда Николай Иванович повернулся, чтобы идтии он дрожащим, словно надорванным голосом, еще раз крикнул:
– А?.. Дяденька!..
Николай Иванович, опять остановился.
– Не нужно, – сказал он.
– Ах, Господи, Господи, – произнес мальчик с тоской и смотрел по сторонам глазами, полными слез. Он, должно быть, давно уж ходил по рынку со своей канарейкой, теперь же было поздно, а покупателя все не находилось. Может быть он уж не к первому так приставал, как к Николаю Ивановичу, и про себя решил, что этот будет последний. Не купит – значит, никто не купит.
И он глядел по сторонам и кусал верхнюю губу и несколько раз быстро мигнул веками.
Тут Николай Иванович подумал, что мальчик, вероятно, не просто продает канарейку, а может быть ему деньги нужны: может быть, ему есть нечего, или его послал на рынок хозяин, и станет ругать, если он не продаст.
И он спросил:
– Сколько ж ты хочешь?
Мальчик смахнул рукавом слезы и заговорил уж гораздо бойчее:
– Она хорошая, дяденька, ей Богу, хорошая... Рубль...
Он взглянул быстро в глаза Николаю Ивановичу и продолжал торопливо:
– Ей Богу, дяденька, это уж так, потому что наши дела такие, а то разве можно за такую цену... Кенар, ведь, дяденька...
– А какие ж ваши дела? – спросил Николай Иванович.
– Дела?.. Плохие наши, дяденька, дела, вот целый день я тут болтаюсь, а никто не покупает; а вчера мамка татарину новое платье продала, семь гривен дал... Мне мамка даже говорила, если не будут покупать, увидишь какого дяденьку, расскажи, как и что; говорит, бывает и дадут...
– А почему ж ты не сказал раньше?
– Забыл, дяденька; сначала помнил, а как стали торговаться, забыл.
Мальчик опять взглянул в глаза Николаю Ивановичу.
– Что ж, дяденька, возьмете?
И в голосе его опять послышалась тревога, и на глазах его опять показались слезы.
– Подержи палку, – сказал Николай Иванович, передавая мальчику палку, и стал рыться в карманах.
А мальчик все говорил, держа в одной руке палку, а в другой клетку:
– Нам бы теперь только хоть на три дня, а там, мамка говорит, будет ходить на фабрику.
– На, – сказал Николай Иванович и подал мальчику рубль. Потом взял палку и хотел было идти, но мальчик его остановил:
– А птичка-то как же, дяденька?
– Не нужно, не нужно, – заговорил Николай Иванович и замахал руками. – Зачем мне она?
– Возьмите, дяденька, как же так?.. Бог с вами, она хорошая, ей Богу, хорошая.
– Ну, давай – сказал Николай Иванович и взял клетку, а сам решил, как придет домой, подарит канарейку хозяйке, и пусть она за ней ходит и делает с ней, что хочет.
До сих пор он никогда и не думал завести себе канарейку, и все это вышло так неожиданно и совсем случайно.
Глава II
В дверях своей квартиры Николай Иванович встретился с хозяйкой, Верой Сергеевной.
Вера Сергеевна была в новой жакетке, новом платье и в шляпке. Эту жакетку Вера Сергеевна надевала только по праздникам, а шляпку только в хорошую погоду, а то она ходила в косынке или шали.
Вера Сергеевна намеревалась было пройти мимо Николая Ивановича, но увидела в руках его клетку с канарейкой и остановилась.
– Вот с покупкою – сказал Николай Иванович, взглянув на Веру Сергеевну и быстро отводя глаза; потом он стал подниматься наверх по лестнице, опираясь одной рукой о перила, а в другой держа клетку и палку.
Он хотел, было сказать, что канарейку купил не для себя, но только жалко мигнул глазами, потому что увидел, как Вера Сергеевна удивилась его покупке... И ему стало больно-больно. Он подумал, что все, и там, в гимназии, и тут, все смотрят на него, точно он совсем иной человек, совсем не такой, как другие люди.
Разве он не мог купить себе канарейку, как купил бы кто-нибудь другой? И что же тут странного? Точно он и правда, как говорила Вера Сергеевна, «засох» и ему ничего, ничего не нужно, как только сидеть одному в своей комнате или в гимназии молча ходить из угла в уголь по классу.
Николай Иванович прошел к себе в комнату, поставил клетку на стол, снял пальто и лег на кровать. Он чувствовал себя усталым и совсем разбитым: никогда не ходил, он так много, и с ним не случалось никогда ничего подобного, как сегодня... Ему хотелось теперь отдохнуть, успокоиться и ни о чем не думать, ему хотелось чтобы все, – весь сегодняшний день поскорее прошел и забылся.
Бедный, бедный Николай Иванович!.. а все-таки в его старом, сердце еще горела любовь и сострадание к людям...
Совсем незаметно для самого себя он заснул, и ему снился мальчик с канарейкой, сама канарейка, а потом откуда-то появилась кошка и стала подкрадываться к канарейке; мальчик стал плакать и утирать глаза грязными кулачками.
А канарейка забилась в угол клетки и затрепетала крылышками.
– Брысь! Брысь! – крикнул Николай Иванович и проснулся.
Когда он ложился на кровать, в окно светило солнце и горячо припекало ему плечо, часть щеки и висок, а на полу от окна, залитого солнцем, лежал светлый яркий четырехугольник. Теперь не было солнца; в комнате был ровный свет, и пол везде был одинаково серый.
Николай Иванович приподнялся на локте и посмотрел на стол, где стояла клетка. Канарейка сидела на жердочке нахохлившись, но сейчас же, как только Николай Иванович завозился на кровати и поднялся, спорхнула с жердочки прямо к дверке и, трепеща крыльями и цепляясь лапками за прутики, стала совать голову то там, то тут между прутиками и все трепетала крыльями.
Николай Иванович сел на кровати и поставил клетку так, чтобы он мог лучше видеть канарейку. А канарейка все не могла успокоиться и все рвалась из клетки, просовывая голову между прутиками.
Николай Иванович, вытянул, шею, чтобы лицо его было ближе к клетке, оперся руками о колени и постарался извлечь из себя звук, которым, как слышал он еще давно, раззадоривают певчих птичек к пению: – «чиви-чиви!». Только у него ничего не вышло, и он сам над собой рассмеялся.
Потом он взял нож и ножницы и стал тереть ножом о ножницы.
Канарейка опять вспорхнула на жердочку и запела, только потихоньку, и скоро опять смолкла и нахохлилась, раздув перышки на зобу и спрятав в них носик.
Николай Иванович вспомнил, что птичка с самого утра, может быть, ничего не ела, и сейчас же почему-то вспомнил и мальчика, у которого он купил канарейку...
– Ох, Господи, Господи, – вздохнул он, встал с кровати, снял с вешалки пальто и кряхтя стал одеваться.
Он сходил в кухню и попросил дворника купить канареечного семени, а сам опять вернулся к себе в комнату. Но канарейки теперь уже не было в клетке.
Дверка в клетке была попорчена, и, пока он ходил в кухню и разговаривал с дворником, птичка успела отворить дверку и выпорхнула из клетки. Она летала по всей комнате, садясь то на шкаф, то на вешалку, то на печку.
Николай Иванович не сразу заметил, что канарейки нет в клетке. Он подошел к кровати и сел, а птичка быстро порхнула на лампу, привешенную к потолку: лампа чуть-чуть качнулась, и канарейка тоже закачалась на ней, стараясь хвостиком удержать равновесие; потом тихонько чирикнула и перепорхнула по прямой линии на плечо к Николаю Ивановичу.
Николай Иванович хотел было сейчас же схватить ее, но сообразил, что канарейка, должно быть, совсем ручная и остался сидеть спокойно.
Вдруг стало ему легко-легко и словно веселей стало в комнате, и он почувствовал к птичке какую-то нежность и жалость, и, когда чувствовал на своем плече прикосновение ее легких лапок, его сердце сжимало настоящее большое счастье... А еще Вера Сергеевна говорила, что его не стоит жалеть и ласкать, потому что он старый, и душа у него старая и так же засохла, как и он.
Когда принесли корм и Николай Иванович стал развязывать мешочек на столе, канарейка опять свистнула, спорхнула с плеча и стала прыгать около его рук.
Руки у Николая Ивановича дрожали, пока он развязывал мешочек, и он все глядел на канарейку, улыбался ей, кивал головою и разговаривал с нею, как будто она его понимала.
Николай Иванович насыпал корм на стол, потом достал из шкафа низенькую широкую чашку, аккуратно вымыл ее и вытер полотенцем, налил в нее воды и поставил около корма. А клетку он повесил над окошком и дверцу оставил открытой.
Потом он сел и стал смотреть, как птичка клевала семя и затем стала пить, усевшись на край чашки.
Николаю Ивановичу казалось, что птичка довольна, необыкновенно довольна. И сам он тоже был доволен, и опять ему вспомнился тот мальчик... «И мальчик теперь тоже, должно быть, успокоился», подумал он.
И какой-то мир и тишина сошли ему на душу.
Солнце садилось. Тише стало на улице. Стекла фонарей и окон блестели нежной, легкой позолотой. Небольшие лужицы на мостовой между каменьями подернулись тонким прозрачным льдом, и в них тоже кое-где играло солнце то синеватыми, то золотистыми блестками.
Дальше, к центру города, здания, которые были выше других, казались как нарисованные, окрашенные солнцем и небом в нежные тона: голубые, лиловые, светло-розовые.
Птичка порхнула в клетку, уселась на жердочке, повозилась немного, почистила носиком перышки и спрятала головку под крыло.
Николай Иванович оделся и вышел на улицу. А раньше он целый день, целый вечер не выходил из своей комнаты... Но теперь его потянуло на воздух, на волю.
И он сел у ворот на лавочке и стал смотреть на прохожих. Прохожие шли торопливо, иные взглядывали на Николая Ивановича, иные нет. Все спешили по домам. Их шаги долго и глухо отдавались по замерзшей земле.
Далеко из слободы доносился собачий лай.
Подошел дворник с густой седой бородой, с широкой грудью, плечистый, в пиджаке и фартуке, сел не на лавочку, потому что сидеть рядом с барином ему казалось неловко, а на обрубок около ворот, вынул кисет и стал набивать трубку, а когда набил, зевнул, сдвинул шапку на затылок, вытер рукавом пот со лба и сказал:
– Ох, вечера-то какие стали, – обратился он к Николаю Ивановичу.
– Хорошо... – отозвался Николай Иванович.
Лицо у него было ясное и светлое. Он даже не взглянул на дворника, и даже будто не ему это ответил, а своим собственным мыслям – вслух сказал о чем думал... И все смотрел туда, где заходило солнце, и откуда по всему небу разливался ровный золотистый свет.
Дворник поглядел на Николая Ивановича, и он ему показался необыкновенно странным. Таким он его никогда не видал до сего дня. Точно этот тихий небесный свет, что заливал там далеко половину неба, теплился в его душе, и оттого его лицо было такое странное: кроткое и тихо-восторженное.
Дворник был совсем простой человек... И он подумал: «Уж не перед смертью ли это он такой нынче?»
А Николаю Ивановичу никогда не казалась жизнь такой прекрасной, как сейчас... И он долго не уходил к себе, пока не закатилось солнце и не стало темно...
Глава III
Совсем переменился Николай Иванович и совсем стал не такой, как был раньше: заговаривал с ребятишками на улице, когда шел в гимназию, или возвращался домой, стал по вечерам выходить в садик и за ворота посидеть на лавочке, захаживал даже иногда к Вере Сергеевне и беседовал с ней подолгу о разных вещах, которые могли ее интересовать.
Только он никому не рассказывал про свою канарейку.
Он словно таил про себя свое счастье и словно боялся, чтобы кто-нибудь не посмеялся над ним.
Раз он прочел в газетах, как у одного старого актера была галка, и актер очень ее любил, потом товарищи актера в шутку напоили ее водкой, и она умерла, а старый актер с горя помешался.
Когда Николай Иванович прочел это, он задрожал. Ему казалась невероятной такая жестокость... И он сейчас же подумал о себе и о своей канарейке.
– Господи, Господи, да разве это можно!
А канарейка весело порхала по комнате, садилась к нему на плечо, опять улетала, взлетала на лампу (это у нее было теперь любимое место) и пела.
Николай Иванович, улыбался про себя: у него нет ни товарищей, ни знакомых, одна только эта канарейка, и они так и будут жить вдвоем, он да канарейка, и им никто не сделает зла.
Пришел и прошел апрель. Наступил май.
В садике у Веры Сергеевны зазеленели березки, около забора густо кустилась молодая крапива; молодые лопухи поднимались над нею. Зелень везде была свежая, чистая. На сиреневых кустах смолистые почки совсем разбухли, и видно было, что в них много жизни и соку. Некоторые почки уже развернулись и показали первые маленькие глянцевитые ярко-зеленые листья.
Целый день в садике чирикали воробьи, громко, весело, точно праздновали весну и радовались зелени.
Николай Иванович к чему-то готовился...
Он купил себе большую плетеную корзину для белья, непромокаемый плащ и штиблеты с толстыми, как копыта, подметками.
Часто он гладил свою канарейку, когда она сидела у него на пальце, и говорил:
– А что, поедем?.. Скоро поедем.
Он действительно собирался уехать на дачу. Только он все откладывал со дня на день сказать об этом Вере Сергеевне. Николай Иванович жил у нее ровно шесть лет безвыездно, и до сих пор у них не было никаких недоразумений. И ему казалось, что он может обидеть Веру Сергеевну, отказавшись от квартиры.
Поэтому ему было так трудно заговорить об этом.
Раз пришел он к ней в комнату, молча остановился в дверях и стал гладить ладонью шершавый бритый подбородок. Он даже не пожелал ей доброго утра, как делал это обыкновенно, а все вздыхал и гладил подбородок, прислонившись плечом к притолоке, пока Вера Сергеевна убиралась в комнате: вытирала пыль с подоконников и с мебели, снимала с углов паутину, протирала окна.
Вера Сергеевна сразу, взглянув на него, догадалась, что он явился неспроста и, сказав только: «погодите, погодите, я сейчас управлюсь», продолжала свое дело, громыхая стульями и столами, как будто совсем забыв про него.
А Николай Иванович смиренно стоял у притолки, раздумывая, как ему начать...
Он вздыхал и покачивал головою, и гладить свой щетинистый острый длинный подбородок.
Однако все обошлось благополучно.
Вера Сергеевна, хоть и была простая женщина, умела понять человека. Может быть, если бы она не была простая женщина, она не поняла бы Николая Ивановича – зачем вдруг ему понадобилось на дачу... Но она обо всем судила попросту...
Она только видела, как неприятен Николаю Ивановичу этот разговор о переезде на дачу, и как ему тяжело.
Когда Николай Иванович заговорил, то почувствовал, что ему стало как-то совестно взглянуть ей в глаза и когда замечал, что Вера Сергеевна смотрит на него, отводил глаза в сторону и все утирал платком со лба пот.
Вере Сергеевне захотелось сказать ему что-нибудь приятное. И она сказала:
– Ну, что ж, на дачу – это хорошо, там поправитесь, а уж канарейка-то ваша будет рада; все-таки, разве это то, что город? Главное – воздух и все...
Лицо у Николая Ивановича сразу преобразилось, и он засмеялся беззубым ртом, совсем по-детски.
– Вот, вот, – заговорил он и закивал головой. – Птица... она... Вы думаете, она не рада увидеть небо?..
– Конечно, – согласилась Вера Сергеевна, – птица – она, ведь, воздушная... А тут что? Пыль, духота...
И до самого вечера Николай Иванович не уходил от хозяйки, пил у нее чай и за чаем шутил и смеялся, и был весел.
Несколько дней спустя он переехал на дачу. Клетку с канарейкой он повесил в самой светлой комнате: когда же погода была хорошая, выносил клетку в сад и вешал ее на дерево.
А чтобы птичке было веселей, просовывал в клетку несколько веток с дерева.
Но канарейка только билась в клетке и, просовывая головку наружу, кричала то жалобно, то сердито. Ей, видно, мало было веток, а хотелось на волю.
В комнате Николай Иванович отворял клетку и позволял птичке летать, где она хочет.
Только раз он неплотно притворил дверь на террасу, и канарейка выпорхнула в сад.
В первую минуту Николай Иванович совсем растерялся, побледнел и схватился рукой за подоконник...
Потом он вышел на террасу и увидел свою канарейку на том самом дереве и на том же сучке, на который он обыкновенно вешал клетку.
Как только он показался на террасе, птичка сейчас же перепорхнула на другое дерево, ближе к террасе.
Николай Иванович стал ее манить потихоньку, отступая задом к дверям и птичка опять снялась и села совсем близко на куст.
Минуту или две она была в нерешимости и качалась на ветке, трепеща крылышками; затем оставила ветку и как всегда уселась доверчиво на плечо Николая Ивановича.
Она закричала громко и настойчиво и по тому, как она кричит и держится у него на плече лапками, а сама все порывается вперед, Николай Иванович, казалось ему, понял, что она зовет его в сад, чуть-чуть не тащит его... Ему даже смешно стало.
И он стоял и не знал, что ему делать.
А канарейка вдруг вспорхнула и села опять у акации, на самой верхушке.
Тогда он сошел с террасы и потихоньку стал приближаться к ней, маня ее; потом сел на лавочку. А канарейка стала летать около него с куста на куст, садилась несколько раз к нему на плечо и на скамейку рядом с ним и все кричала громко и радостно.
А Николай Иванович смотрел на нее и говорил:
– Ах, дура... дура...
И улыбался канарейке.
Теперь он знал, что ему нечего бояться, что она залетит куда-нибудь: канарейка не летела дальше садика.
Потом он догадался вынести клетку на террасу. Только птичка не сразу влетела в клетку, а долго еще летала по садику.
С тех пор Николай Иванович не заботился, чтобы дверь на террасу была всегда закрыта.
Канарейка улетала и опять прилетала и жила совсем на свободе. Только на ночь Николай Иванович запирал ее в клетку.
Она постоянно будила его по утрам, чуть только взойдет солнце.
Лето тогда стояло хорошее, и были хорошие зори, утренние и вечерние...
Перепадали дожди, и тогда еще веселей все зеленело кругом... И были сильные дожди, и весь мир: и небо, и поля, и деревья, тогда, казалось, смеялись сквозь слезы, и мир казался тогда совсем, совсем юным, и никакие тучи и грозы не могли омрачить надолго его радости...
А зори навсегда остались в памяти у Николая Ивановича, свежие утренние зори...
Проснувшись, он любил сидеть у окна; кругом все было свежо, зелено; роса блестела на листьях и на траве, прозрачная, чистая. А солнце стояло на горизонте, яркое, светлое.
Н казалось Николаю Ивановичу, что он проснулся после долгого-долгого сна, или вновь родился...
Среди дня он выходил на улицу посидеть на лавочке у ворот. Улица была узенькая и вся заросшая травою.
Только посередине улицы остались от весны следы колес – две колеи; но по улице не было большой езды, и колеи тоже начинали зарастать травою.
На улице постоянно кто-нибудь да был: либо шла нянька с детьми в светлых чистеньких платьицах, либо какая-нибудь дама под зонтиком, либо студент, шел с купанья с полотенцем на плече, в фуражке, сдвинутой на затылок либо вдруг из-за угла дребезжа выезжала линейка с вокзала, и на козлах сидел извозчик, чмокал на лошадь губами и дергал вожжами, заворачивая к какой-нибудь даче. Утром постоянно бегал от дачи к даче газетчик в больших сапогах с пачкой газет подмышкой и кожаной сумкой у пояса.
Изредка проходил разносчик в жилетке и красной: рубахе навыпуск с подвязанным фартуком, с лотком на голове и кричал нараспев, тараща глаза по сторонам:
– Огурцы! Огурцы грядовые! Клубника!
И все глядел по сторонам, и странно было, как он никогда не споткнется, потому что никогда не смотрит под ноги.
Николай Иванович давно уж знал в лицо всех постоянных дачников и мог сказать почти наверное, куда и зачем пойдет каждый из них в то или другое время дня, – на вокзал, или купаться, или на прогулку... Но ему все-таки было весело сидеть на лавочке в солнечный день и смотреть, что делалось на улице.
Он словно рассматривал альбом с картинками; и на улице, правда, все было как на картинке из альбома – и светлые платья детей на зеленом фоне травы, и ярко освещенная солнцем фигура студента, посреди улицы на солнцепеке, в шитой рубашке, с двумя мокрыми от недавнего купанья пятнами на спине; и этот извозчик с загорелым как кирпич, лицом и светлые пятна от солнца на лакированной обивке его линейки; и удаляющий быстрыми шагами газетчик в конце улицы, тоже весь в свету, с раздувающейся на спине от быстрой ходьбы рубахой; и блеск солнца, и гибкие ветки акаций за дачными заборами и решетками...
Николай Иванович сидел на своей лавочке смотрел, щурясь от солнца, и ему хотя было немножко жарко, но хорошо и спокойно.
Глава IV
Как-то, в середине июля, Николай Иванович сидел, по обыкновению, у ворот на лавочке.
День был душный и жаркий, на улице было тихо и не видно ни души. Только воробьи купались и прыгали в пыли на дорожке, протоптанной вдоль улицы около дач. Где-то далеко кричали петухи. Прогудели паровозы, за дачной рощей и прогрохотал колесами, сначала отчетливо и громко, потом все тише и наконец совсем, глухо-глухо; скоро стук его колес замер вдали.
И опять все было тихо. Только петухи кричали. Было три часа. В это время кое-кто из дачников возвращался из города со службы. Николай Иванович уселся поудобней на лавочке и приготовился наблюдать как пойдут дачники и как их будут встречать домашние.
Он сел лицом в ту сторону, откуда ожидал дачников, закурил папиросу и стал смотреть на конец улицы, где мимо угловой дачи обыкновенно ездили линейки и ходили дачники.
Опять загудел локомотив, теперь уже с противоположной стороны. Слышно было по стуку колес, как он замедлял ход, подходя к станции, потом свистнул и остановился.
Этот поезд был дачный из города.
Минуть через пять задребезжали линейки там и сям по дачным улицам и переулкам; проехала линейка и по той улице, где жил Николай Иванович; прошел мимо Николая Ивановича молодой человек в зеленой соломенной шляпе и желтых башмаках с пальто на руке и еще господин с бумажным свертком и с тросточкой; опять из-за угла выехала линейка с двумя седоками в парусинных пиджаках, прошла дама под розовым зонтиком...
– Балыки! балыки хорошие! – неожиданно прокатился в воздухе густой баритон, и из-за угла (где была угловая дача) вышел разносчик с лотком на голове и пошел по середине улицы, оглашая всю улицу криком:
– Балыки, балыки!.. Осетрина свежая!
И он шел прямо, прямо держал, голову и глядел по сторонам, не поворачивая головы из-под своего лотка. Он, верно, тоже приехал с поездом.
А вслед за «балыками» сейчас же на улице появился мальчик с клубникой. Только он не кричал, а подходил к каждой даче и спрашивал через решетку, не нужно ли ягоды.
Подошел он и к Николаю Ивановичу и тоже спросил, не нужно ли ягоды.
А Николай Иванович вдруг сделал большие глаза и ничего не ответил, а потом спросил:
– Послушай, мальчик (а сам все смотрел на мальчика): не продавал ли ты нынешней весною ручной канарейки на птичьем рынке?
– Продавал, – сказал мальчик, и вдруг все лицо его словно просветлело, и он улыбнулся во весь рот, потому что он тоже узнал Николая Ивановича...
Он стоял перед Николаем Ивановичем, держа обеими руками на голове свой лоток с клубникой, и смотрел ему прямо в лицо.
И Николай Иванович тоже смотрел на него. На его худом бритом лице тоже была улыбка.
Потом Николай Иванович сказал:
– Ну как же вы теперь там?.. Как живете?.. Торгуешь?
– А канарейка? – спросил мальчик. – Торгую.
– Вон она, – сказал Николай Иванович, указав на террасу, где на столбике висела клетка, и опять улыбнулся: – Чего ей, тут хорошо... Так торгуешь?
– Торгую.
– Мать посылает или от хозяина?
– От хозяина.
Мальчик говорил, а сам все смотрел на канарейку, потому и отвечал так коротко.
– А мать? – спросил Николай Иванович и тоже покосился на канарейку и сейчас же забыл, что хотел сказать мальчику. – Она у меня совсем сделалась ручной, – проговорил, он и крикнул кенару:
– Эй ты, юла!..
А мальчик перестал улыбаться и перестал смотреть на кенара.
– Сначала на работу ходила, а теперь опять лежит, – сказал он, взглянув на Николая Ивановича, и пояснил, потому что в глазах у Николая Ивановича было недоумение: – Я это про мать... Мать-то, говорю...
– А! – вспомнил Николай Иванович. – Ну, ну, что ж она?
– Больна; нездорова грудью.
Николай Иванович вздохнул и закачал головою.
– А-я-яй... как же это она?.. Она бы к доктору?
– Были, – сказал мальчик, – только, говорит, нужно в деревню; а мы городские, фабричные...
– А вы б на дачу, – сказал Николай Иванович и вдруг покраснел слабым, больным румянцем, и ему стало неловко перед мальчиком.
«Куда, в, самом деле, им ехать на дачу, этим, беднякам?»
А про дачу Николай Иванович заговорил потому, что ему самому было хорошо на даче, и он хотел, чтобы и всем людям было так же хорошо, легко и спокойно.
Он быстро взглянул на мальчика, а мальчик глядел на него, словно не понял, что ему сказал Николай Иванович. И верно – он не понял. О даче он никогда и не думал.
Он опять стал смотреть в ту сторону, где, была клетка. Клетка теперь была пустая, а канарейка прыгала по столу на террасе.
– Ишь ты, – сказал мальчик и улыбнулся. Затем лицо у него опять стало грустное, и он недолго глядел на канарейку.
– Может, ягод купите? – обратился он к Николаю Ивановичу, поставил ногу на лавочку и, опустив на колено лоток стал развязывать тряпку, которой были закрыты ягоды.
– Что ж, ты так и ходишь весь день? – спросил Николай Иванович.
– Как, так?
– А с этим?
Николай Иванович указал глазами на лоток и потом, показал, жестом, подняв руки, как носят лоток.
– Так и носишь на голове?
– А как же, – усмехнулся мальчик.
– Тяжело, небось?
– Не... не тяжело, а только намаешься за день.
И мальчик поглядел на свои ягоды, а затем на Николая Ивановича.
– Что ж, купите?..
– Ягоды это?
– Да...
А Николай Иванович думал в это время совсем про другое...
Он разговаривал с мальчиком, а душа у него томилась одной неотступною мыслью, и вся была преисполнена жалости... Он плохо разбирал и плохо слышал, что говорит ему мальчик, только некоторые ответы мальчика, иногда совсем для него неожиданные, болезненно отдавались в его сердце.
Тогда все лицо у Николая Ивановича вспыхивало, и он ничего не слышал, что дальше говорил ему мальчик и думал про то, про свое, что он хотел сделать.
А мальчик стоял перед ним тщедушный, с узенькой грудью, с узкими острыми плечами, с потным, грязным, лицом, и всякий раз, как взглядывал на него Николай Иванович, еще больней ныло его сердце.
– Слушай – сказал он наконец – ведь твоя мать может быть кухаркой?
– Мать-то?
Мальчик почесал в затылке.
– Да.
Мальчик кашлянул, кивнул головою и сказал:
– С чего ж не может? – Он усмехнулся и добавил: – Всякая может.
– Так пусть она ко мне наймется... Я бы и тебя взял,.. Так ты тут и жил бы. А ей это для здоровья хорошо было бы – на даче.
Мальчик полуоткрыл рот и несколько секунд ничего не отвечал.
– Слышишь? – сказал Николай Иванович.
– Слышу...
Мальчик говорил медленно, точно не совсем еще уяснил себе, что сказал ему Николай Иванович, и все смотрел на Николая Ивановича широко открытыми глазами, а его голос был словно сдавленный и тихий, как шепот.
– Ну иди, – сказал Николай Иванович, – скажи матери, пусть хоть нынче перебирается.
Мальчик, поднял, лоток, и долго шел, по улице молча, а потом закричал громко:
– Клубника, клубника садовая!
Он теперь уж не смотрел внимательно по сторонам, а быстро шел по улице, потому что ему было все равно, будут ли у него брать клубнику или нет.
И он думал, что он последний день ходит с лотком, а потом станет жить на даче целое лето, будет ходить купаться на реку и бегать в поле и в лес.
А Николай Иванович сидел на лавочке, глядел ему вслед, и лицо у него было такое же, как тогда, когда он принес к себе канарейку и сидел вечером за воротами с дворником.
И опять, как в тот вечер, миром и тишиной веяло ему на душу.
На другой день мальчик перебрался на дачу со своей матерью.
Мать его была уж пожилая женщина, худая, высокая, с продолговатым больным лицом и часто кашляла, прикладывая руку к груди, тряся головою и за кашлем, когда он прерывался на минуту, постоянно повторяла одно и то же:
– Ох Господи, Господи...
И видно было, что ей трудно, и кашель совсем отнимает у нее силы.
– Ничего, поправишься, – сказал ей Николай Иванович.
И она, правда, скоро поправилась и стала хорошею слугою Николаю Ивановичу. Только за канарейкой он ходил сам.
Мальчика Николай Иванович стал учить рисованью, потом отдал его в ученики в литографию, и из него вышел хороший гравер.