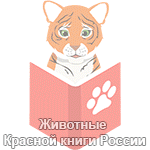На верблюдах
Автор: А. Чеглок
Жуткое чувство вызывали во мне караваны, отправляющиеся вглубь пустыни!
Каждый раз, когда под моими окнами раздавался оглушительный рев верблюдов, – я поспешно одевался и выходил на улицу. Тут, наискось от меня, возле магазина вьючили верблюдов.
Из магазина выносились громадные ящики, приставлялись к крутым бокам верблюдов и подвязывались веревками к особому седлу. Потом криками и палочными ударами заставляли животных вставать. Тут-то каждый раз раздавался оглушительный рев на всю улицу. В нем слышались угроза, отчаяние и бессильное проклятие своей судьбе.
Первое время мне казалось, что какой-нибудь верблюд вот-вот хватит погонщика своими острыми кривыми клыками и размозжит ему ту руку, которая бьет его толстым пальмовым стержнем; но этого не случалось. Правда, вместе с понуканиями усиливался рев: очевидно, верблюду не очень хотелось покидать свое покойное место и нести груз в 10–15 пудов; но человек оказывался упрямее верблюда – и в конце концов понукаемый с двух сторон верблюд делал резкое движение своей шеей и поднимался сначала на задние ноги, а потом и на передние.
Вместе с этими движениями прекращался и рев. Верблюд отходил несколько шагов в сторону и останавливался посреди улицы.
Деловито и торопливо спешили погонщики в магазин за новыми ящиками.
Странные животные покойно давали себя вьючить и только во время подъема оглушали погонщика своим ужасным ревом.
С последним нагруженным верблюдом погонщики надевали бурнусы, закидывали за плечи длинные, старинной формы, ружья – и караван начинал двигаться.
Шествие открывал начальник каравана, самый умелый и опытный араб, который лучше других знал пустыню и обладал собачьим нюхом, указывавшим, куда нужно идти.
Один за другим вытягивались в ряд верблюды и, мерно покачивая свои изогнутые шеи, плавно ступали по сыпучему песку.
Я торопился обогнать караван и выйти из города.
Тут, со старой разрушенной крепостной стены, моего любимого наблюдательного пункта, я смотрел на караваны. Тихо, плавно выступали один за другим верблюды. Без шума, по одиночке, завернувшись в свои бурнусы, так же молчаливо и беззвучно шагали возле них арабы. И эта молчаливость, необычная для арабов, и эти, торчащие за их спинами, длинные стволы ружей – говорили ясно о серьезности их путешествия.
Они тли туда, вглубь, в ту страшную пустыню, в которой только на маленьких клочках земли, возле воды и пальм, небольшие группы людей могут вести полуголодную жизнь.
Да, ужасна пустыня! Ужасна безлюдьем, бесплодностью, страшными сыпучими песками и подавляющею громадностью!
Каждое путешествие по ней от одного оазиса до другого – это опасное предприятие, которое не всегда оканчивается благополучно. И чем дальше вглубь Сахары, чем реже находится один оазис от другого – тем больше опасности в таких путешествиях.
Но еще больше опасности дарит Сахара торговым караванам, верблюды которых тяжело нагружены всякого рода товарами. Тут ко всем опасностям природы присоединяется вечное опасение нападений со стороны туарегов, этого разбойничьего племени, для которого разбой есть особый, лишь более опасный вид охоты, чем за дикими животными. Но как ни опасно водить караваны, тем не менее всегда находятся люди, которые за ничтожное вознаграждение готовы рисковать своею жизнью и браться за такую работу.
Каждый раз я долго смотрел за удаляющимся караваном. И каждый раз одно и то же жуткое чувство за жизнь этих людей охватывало меня, когда песчаные бугры поглощали последнего человека.
Но странное дело: вместе со страхом у меня пробуждалось другое чувство, какое-то любопытство, желание самому проникнуть вглубь пустыни и увидеть ее во всей ее дикой и ужасной неприглядности.
В том новом, что я мог увидеть там, а может быть и в самой опасности такого путешествия коренилось какое-то особенное стремление сделать его самому. Как запрещенный плод – это стремление все чаще пробуждалось во мне и все настойчивее и настойчивее побуждало меня к его выполнению.
Я решился.
На первый раз я наметил путешествие в Уарглу.
От Тугурта до Уарглы считается не больше 160-ти верст. Мой проводник говорил, что на его верблюде мы сделаем свободно этот путь в 4 дня.
В Уаргле мы дадим 2 дня отдыха себе и верблюдам и в 4 же дня сделаем обратный путь.
Десяти дней вполне достаточно для этого путешествия. На приготовление к нему мы употребили целый день. Приходилось брать провизии на десять–двенадцать дней. В Уаргле можно было найти только финики и кус-кус. На другой день в 4 часа утра Бу-Канас стоял возле моего окна и бросал в окно горсти песку, считая, вероятно, неприличным стучать кулаком.
Я оделся и вышел. Возле него стояли два верблюда. Но, о ужас! Что это были за животные!
Не дальше как вчера Бу-Канас расхваливал мне своих верблюдов и даже осмеливался утверждать, что они мало чем уступают быстроногим мегари.
Теперь же предо мною стояли два несчастных одра, на которых шерсть висела клоками, а на животе, суставах и задних ногах ее совсем не было.
Верблюды славятся своим безобразием. Но эти два верблюда были, кажется, самыми безобразными во всей Сахаре. И у одного, и у другого верхние губы нависали вниз и совсем закрывали зубы, а нижние еще более отходили вниз и висели сами по себе. Громадные, длинные ноздри, вытертая шерсть около глаз и многочисленные морщины придавали обоим верблюдам жалкий, старческий вид.
– И на этих верблюдах, – не удержался я, – мы должны сделать двести верст по пустыне?
– Хочешь – в Тунис повезу! – задетый моим восклицанием хвастливо воскликнул Бу-Канас.
– Какой там Тунис! Хорошо, если до Уарглы они не сдохнут по дороге.
– И! охы, охы, охы, как ты нехорошо сказал. Зачем так говорить? Перед дорогой? Впрочем Аллах милостив, он не допустит, чтобы с его правоверным что-нибудь случилось по дороге, успокоил он себя.
– А про меня-то ты забыл? – спросил я.
– У тебя свой Бог есть, – спокойно ответил он и начал прилаживать узлы с провизией.
Мне тоже ничего не оставалось сделать, как и самому начать сборы.
В сущности, я не знаток верблюдов. Может быть, действительно, эти верблюды только с виду неказисты, а на ходу они хороши. Ведь раз Бу-Канас решается ехать, так чего же я буду сомневаться – успокоил я себя и через полчаса наши два верблюда были навьючены почти также, как и верблюды, отправляющиеся с товарами.
Я никак не ожидал, что у нас двоих окажется так много багажа. Я даже предлагал Бу-Канасу оставить что-либо дома, но он находил, что в пустыне лучше взять больше, чем меньше.
С нашими верблюдами повторилась та же история, что и со всеми другими... И в тот момент, когда их заставляли ложиться, и во время поднятия они оглушали нас своим ревом. Я уселся на верблюда довольно благополучно.
Правда, когда верблюд вдруг поднялся на задние ноги, то я чуть не перелетел через его голову, а когда он поднялся на передние, то я был близок к тому, чтоб полететь вверх тормашками. Но все же я удержался, благодаря двум тюкам, а когда верблюд зашагал, то я нашел, что на них совсем не так скверно ездить, как казалось. Он давал не лошадиную тряску, а плавное покачивание.
Мне это качание напоминало езду в шлюпке во время зыби. Корабль пустыни оправдывал свое название: через полчаса у меня появилась даже легкая тошнота, как от морской качки. Но через час я уже совсем освоился с такой ездой. Я даже вынул свой фотографический аппарат, чтобы сфотографировать Бу-Канаса, около двух сиротливо стоящих пальм. В своей громадной шляпе и в толстом полосатом бурнусе, он показался мне очень интересным. Как у него, так и у его верблюда висело на шее по амулету. У него священный амулет был заделан в жестяном медальоне, а у верблюда обмотан грязной, огромной тряпкой.
Бу-Канас пространно объяснял мне, от каких напастей спасали его и его верблюда эти амулеты, а я в это время думал о том, как все люди похожи друг на друга.
Не то ли самое я слышал на своей далекой родине? Разве не такое же чудесное значение придавалось там кусочкам дерева, костям, как здесь – обыкновенным камешкам. Слаб человек в невежестве! Нужно ему создавать себе опору в чем-нибудь перед неведомыми ему грозными силами природы. Передо мной пронеслись картины культурной Европы – громадные города, фабрики, густая сеть железных дорог, поезд, на котором я в одну ночь сделал больше 700 верст; потом громадный пароход, доставивший меня из Марселя в Алжир. Там было торжество человека, завоевание природы и могучее подчинение ее своим желаниям, целям... Там не нужно было привешивать к паровозам и пароходам никаких амулетов и талисманов.
И люди, которые изобретают и управляют ими, тоже не нуждались в талисманах. У них был только один талисман – их гордый разум, выкинувший из их головы все людские суеверия.
Только в смелом, пытливом разуме залог победы человека над силами природы. Там же, где этого нет, человек не идет дальше приручения животных и пользования ими.
Более 3000 лет тому назад верблюды уже были известны, как прирученные животные, народам Азии и Африки, и теперь, как и 3000 лет тому назад, лучшего способа передвижение эти народы не придумали. Человек пользуется лишь тем, что дает ему природа в лице этого уродливого жвачного животного.
Конечно, само по себе это животное достойно удивление и тщательного изучения. Трудно представить, чтобы без верблюдов могла быть заселена людьми пустыня.
Его поразительная неприхотливость, как в пище, так и питье, делают его самым удобным животным для всякого рода услуг в пустыне.
Мы ехали на 10 дней, но Бу-Канас и не думал взять для них какой-либо пищи. Жалких маленьких кустиков, растущих в некоторых местах пустыни, было достаточно для пищи верблюдам. Это не лошадь, которой нужна хорошая пища в виде овса или ячменя. Хорошей пищи верблюд не переносит.
Все попытки поселить их в плодородных долинах оканчивались неудачей и, наоборот, там, где почва тоща, где растительность наиболее скудна, груба, – как, например, в пустынях или на пологих морских берегах – там верблюд чувствует себя лучше всего.
Для благополучия этих странных животных нужны самые грубые, жесткие травы или мясистые солончаки. Они охотно съедают и ветки мимоз и акаций с их громадными толстыми иглами. Вероятно, уколы этих игол не вонзаются глубоко и не причиняют ни малейшей боли ни языку, ни нёбу, ни пищеводу этих удивительных зверей. Бу-Канас говорил, что в случаях голода и полного отсутствия пищи погонщики дают верблюдам корзины, маты или даже свои широкополые шляпы. Для верблюдов годится и такая пища.
Точно также ни один араб никогда не берет для верблюдов воды. Верблюд может пробыть без воды зимою, при сочной траве до 2-х недель; но летом их поят чаще.
Через три часа пути мы проезжали мимо небольшого оазиса. Тут мы у источника сделали остановку. Бу-Канас набрал в два кожаных меха-бурдюка воды для нас, а своим верблюдам предоставил напиться вволю.
Они очень охотно подошли к канавке, согнули передние ноги, вытянули шеи и долго и много пили. Мне показалось, что даже животы у них раздулись, и толстые веревки седла глубже врезались в их тело.
Когда верблюды ели, то в их желудках слышался довольно ясный шум воды. Этот шум напоминал плескание жидкости в маленьком неполном бочонке.
Бу-Канас сказал, что верблюды могут выпивать до 4 и даже до 5 ведер воды, – но верность этого сведение я оставляю на его совести.
Удивительная способность верблюдов переносить долгое время жажду кроется не только в общей привычке всех животных пустыни, но и находит свое объяснение в особом устройстве двух первых желудков с глубокими ячейками или перегородками. Здесь вода смешивается с желудочной слизью и пищей и постепенно расходится на потребности тела.
В некоторых книгах, а особенно в старинных, писались по этому поводу различные басни о том, что при сильной жажде люди убивали верблюдов и в их желудках находили воду для питья.
Вздор такой басни очевиден для всякого, кто знает, что вся пища и питье попадают в желудок и вызывают там выделение различных соков. Не только через несколько дней, но и в тот же день, когда верблюд пьет – невозможно пить воду, которая хоть несколько часов побыла в желудке у животного.
Но оставляя своих верблюдов по нескольку дней без воды – арабы очень заботливо набирают для себя даже на самые короткие путешествия бурдюки или кожаные мехи с водой.
Кроме того, каждый араб знает и умеет находить безошибочно источники в пустыне. Без такого знание и умение каждого путника в пустыне ждет верная смерть. По тому, как заботливо Бу-Канас увязывал мехи с водою, можно было видеть, какое огромное значение придает он этой драгоценной влаге.
В наших двух бурдюках вмещалось наверно ведер 6–7.
– Бу-Канас, зачем ты так много берешь воды? – спросил я его.
Он улыбнулся, оскалив свои белые, крупные зубы и сказал:
– Теперь только через шестьдесят верст будет вода. Если нас застанет южный ветер, тогда и этой воды будет мало.
– Почему?
– Тогда верблюды не пойдут, а будут ждать, пока он не перестанет.
Южный ветер, или сирокко – скверный ветер. Человек и верблюды сохнут от него. Цветы и листья тоже. Даже вода в бурдюках пропадает. Пьешь не пьешь, а ее все меньше становится.
– Только завтра его не будет, – успокоил он меня, – мы хорошо доедем.
– А ты почему знаешь? – спросил я его.
– Знаю! Перед южным ветром даже добрый человек злым делается. А я сейчас добрый, – заявил он мне.
Целый день мы ехали песками. Пустыня развертывалась перед нами во всей своей неприглядности!
Сначала я с любопытством смотрел на каждый песчаный бугор. Меня занимали красивые полоски, которыми, как мелкой рябью на воде, были изукрашены бугорки с подветренной стороны. Красивые и разнообразные рисунки делал ветер на вершинах бугра. Красивы были и глубокие отпечатки верблюжьих следов на песке, которые ровными линиями тянулись за нами через лощины и бугры.
Я очень долго с любопытством напрягал свое зрение при каждом въезде на бугор, с которого мог открываться новый вид. Сначала у меня было чувство какого-то страха, смешанного с любопытством.
Ведь я ехал вглубь пустыни без дорог, я вступал в страну еще до сих пор непокоренную европейцами, даже с их могучими орудиями борьбы с природой! Я превращался здесь в такого же первобытного человека, как и кочевые бедуины. Я пользовался их способами передвижение и двигался со скоростью 3 1/2 верст в час. Я был в такой же зависимости от верблюдов, от сирокко, воды в бурдюках, как и все остальные полудикие сыны пустыни.
Много мыслей и чувств рождалось во мне в первые часы моего пути, но потом однообразие пустыни утомило меня. Непрерывными рядами, то чаще, то реже тянулись голые песчаные дюны.
Ровным шагом, не ускоряя, не замедляя своего хода, молчаливо шагали наши верблюды. Так же правильно, ритмично раскачивались и мы на своих седлах. Устали глаза смотреть на желтый, раскаленный песок, устала спина качаться во все стороны, и голова думать о чем-либо... Было одно желание покоя и отдыха – и это желание все усиливалось и усиливалось...
Наконец наступили сумерки. Кровавые лучи солнца озолотили гребни дюн и заблестели золотом в мелких песчинках. Закат был великолепен, чистота воздуха поразительна. Сразу после палящих лучей солнца в воздухе засвежело.
Под высоким довольно крутым бугром, Бу-Канас развьючил верблюдов и стал готовить закуску. Чтобы не сидеть на голом песке мы разостлали мат и, развалившись на нем, плотно закусили и стали готовиться к ночлегу.
Я закутался в теплое одеяло, а Бу-Канас в толстый полосатый бурнус. Темнота наступила очень быстро. Небо, как-то сразу потемнело и звезды ярко заблестели по всему небосклону.
Заснул я очень быстро, хотя несколько раз просыпался среди ночи от холода. Я никак не предполагал, чтобы после жаркого дня была такая холодная ночь.
Проснулись мы в 3 часа утра. Было совсем темно. Бу-Канас торопился; он предполагал сделать большую остановку среди дня, чтобы верблюды могли хорошо поесть.
После двойного верблюжьего рева при укладывании и вставании мы тронулись в путь. Однако, для меня в этот день качаться на верблюде, было еще более неприятно, чем вчера. Уже вчера я часа два шел пешком, чтобы дать отдых моей спине.
Сегодня же я решил большую часть пути идти пешком. Как ни тяжело и утомительно шагать по песку – однако, с непривычки езда на верблюде была для меня еще более утомительной. Я скоро остановил своего верблюда и пошел пешком.
– Бу-Канас, – сказал я своему проводнику, – отчего и ты не слезешь? Ведь верблюды идут очень тихо. Все равно, что идти, что сидеть.
– Сидеть лучше. Арабы не любят ходить. Нет мула, верблюда – араб на осла сядет, а пешком не пойдет.
– Но если верблюд устанет?
– Отчего ему устать, он целую ночь отдыхал, – беспечно ответил Бу-Канас и, указывая рукою вдаль, сказал:
– Смотри, мегари бежит!
Я тщетно напрягал свое зрение несколько минут, пока не увидел сначала что-то необыкновенно высокое, длинное. Мегари быстро приближался к нам. Мегари – это особая порода верблюдов, которую любят разводить туареги. Они гораздо выше, стройнее и, пожалуй, даже красивее обыкновенных верблюдов. Насчитывают до 20-ти различных пород верблюдов, но различие между ними такое же, как и различие между породами лошадей. В Азии есть верблюды с двумя горбами. Они, обыкновенно, ниже на ногах, но гораздо массивнее одногорбых.
В связи с более северным расположением азиатских пустынь, у них и шерсть гораздо длиннее. Весной, при стрижке, с двугорбого верблюда собирают до 50-ти фунтов шерсти, а с дромадера или одногорбого и десяти не собрать.
У мегари же, как более южного верблюда, шерсти еще меньше и она еще короче, чем у обыкновенного вьючного верблюда. Кроме густоты и длины шерсти, изменяется, в зависимости от климата, и ее окраска. Двугорбые верблюды темно-бурого цвета. Дромадеры северной Африки светло-желтого цвета, а мегари издали кажется совсем белым.
Мегари среди обыкновенных верблюдов, – все равно, что скакун среди битюгов. Это быстроходные верблюды, которые оставляют за собою и знаменитых арабских лошадей, как бы быстро они ни бежали. Арабские лошади могут обогнать мегари только на коротком расстоянии: на длинных же выносливость мегари берет вверх.
Но на мегари нельзя возить тяжестей, они пригодны только для верховой езды. На них туареги совершают свои разбойничьи набеги и бесследно скрываются в пустыне.
Обыкновенный верблюд делает не больше 35–40 верст в сутки; на мегари же можно проехать в одни сутки до двухсот верст, а в двое суток и до 300 верст.
– Это курьер почту везет из Уарглы! – сказал Бу-Канас.
Опять я, как и следует близорукому европейцу, лишь через несколько минут мог разглядеть всадника с длинным торчащим за спиной ружьем.
Верблюд бежал крупной рысью и быстро промелькнул перед нами. Постепенно его крупная фигура делалась все меньше, меньше и, наконец, исчезла с моих глаз.
Это был единственный человек, которого мы видели за все это время, но и то он проехал вдали от нас. Опять мы остались одни со своими двумя молчаливыми верблюдами. Теперь, после стройного мегари, они показались мне еще более уродливыми и несчастными... Мне даже казалось, что и шагают они еще медленнее, чем вчера.
По временам я отставал от них, чтобы около какого-нибудь кустика поймать быстроногую жужелицу с белыми пятнами. И даже с такими остановками не нужно было убыстрять свой шаг, чтобы нагнать верблюдов. Они шли гораздо медленнее, чем я привык ходить.
Однообразие пустыни и медленное передвижение делали путешествие очень скучным. А Бу-Канас не только не развлекал меня своими разговорами, но умудрился заснуть, сидя на верблюде. Только при спусках с холмов он инстинктивно удерживал равновесие и открывал глаза.
Я всего один раз спросил его, правильно ли мы едем? Он указал мне на широкую пирамиду, которую французы устроили из камней на одном из самых высоких песчаных холмов. Возле нее Бу-Канас предлагал сделать остановку. Там, по его словам, для верблюдов был хороший корм.
Опять, так же как и вчера, мы в 10 часов утра сделали остановку. Развьючили верблюдов и пустили их на кормежку. Подкрепили и себя немного, а потом, расслабленные горячими лучами солнца, сладко вздремнули часа два.
Когда я проснулся, Бу-Канаса уже не было возле меня. Я взобрался на холм и с него увидел, что Бу-Канас старается подогнать верблюдов к нашей остановке. Но сделать это было не совсем легко. То один, то другой верблюд останавливался около каждого кустика и с неохотой отрывался от еды. Наконец, кое-как они были подогнаны к нашим тюкам.
На этот раз верблюд, на котором ехал Бу-Канас, выказал необыкновенное упрямство и ни за что не хотел ложиться, при этом ревел он самым невозможным образом. Еще более ужасны его рев и упрямство были при вставании. Он добился-таки того, что Бу-Канас слез с него.
– Видишь, Бу-Канас, твой верблюд очень умный. Он хочет, чтоб ты шел со мной пешком, – пошутил я. Но моя шутка только раздражила Бу-Канаса. Он осыпал градом ругательств и проклятий своего верблюда.
В этом потоке ругательств на его лень и упрямство я узнал неприятную для меня новость. Оказывается, что мы за полтора дня прошли всего 35 верст и можем прийти в оазис только завтра к полудню. Пройти 70 верст в первые два с половиною дня – это маловато!
Через 10–15 минут Бу-Канас сделал попытку сломить упрямство своего верблюда. Я пробовал уговорить его идти вместе со мной пешком, но он не хотел утруждать своих ног. Больше получаса мы потеряли на эту попытку. Бу-Канас оказался упрямее своего верблюда. Он кричал, кажется, еще громче, чем верблюд, и неистово барабанил палкой по его шее. Верблюд не выдержал и поднялся.
Бу-Канас самодовольно улыбнулся своей победе над упрямством верблюда, скрестил ноги на его шее и сказал: – Ехать лучше, чем идти.
– Ну какая это езда! Так только покойников возят! – возразил я.
– Ах, какие ты нехорошие слова говоришь... Разве можно про них вспоминать теперь? – с суеверным ужасом произнес Бу-Канас.
Я посмотрел на него, и опять мне вспомнилась моя далекая родина со всеми ее приметами и поверьями. Там тоже верят в дурное слово, плохой глаз и недобрый час...
Вчера Бу-Канас обиделся на мое предположение о том, что верблюды могут издохнуть по дороге. Сегодня его покоробило мое упоминание о покойниках. Словам он придавал громадное значение, но что он увеличил собою груз верблюду на 4 пуда, это для него не имело значения. Его собственная лень закрывала ему глаза на усталость верблюда. Не помогло и мое уговаривание идти пешком. На все мои доводы Бу-Канас отвечал, что арабы ходят пешком лишь тогда, когда не на чем ехать, а у него целых два верблюда. Я увидел, что убеждать Бу-Канаса бесполезно, и перестал разговаривать с ним.
Бу-Канас же очень скоро погрузился в дремоту. Часа через два нашего пути местность несколько изменилась.
Песчаные холмы стали уменьшаться, и, наконец, совсем исчезли. Мы вступили на ровную гладкую, как ладонь, местность с серой до утомительности однообразной почвой.
На ней лишь кое-где торчали чахлые маленькие кустики. Не на чем было остановиться глазу! Он скользил вплоть до дальней линии горизонта, не открывая ни единого живого существа, ни единого крупного кустика или даже песчаного холмика. Там, в песках не чувствовалось того одиночества и такой оторванности, как здесь.
Там, с песчаных бугров, тоже был виден широкий горизонт, но вплоть до него шли целые ряды песчаных гребней. Каждый бугор, каждая лощина по своему расположению, высоте или кустикам хоть немногим, но отличались друг от друга. Здесь же было как-то жутко от такого однообразия и пустоты...
Уже вчера я часто спрашивал Бу-Канаса, верно ли мы едем? Я очень боялся, что во время его дремоты верблюды могут взять другое направление. Часто я нарочно будил его, но он всегда указывал рукой в даль и говорил, что верблюды идут правильно.
Теперь же к этой унылой местности я еще чаще стал приставать к нему. Ведь, если верблюды отклонятся от правильного пути, то через 30 верст мы можем оказаться еще в 30 верстах от оазиса.
Меня начинала пугать пустыня и раздражать беззаботность Бу-Канаса.
– Бу-Канас, почему ты знаешь, что твои верблюды идут туда, куда нужно? – стал приставать я к нему.
– Они знают. Они много раз ходили по этой дороге! Это большая дорога, по ней караваны зимой ходят.
– Но какая же здесь дорога? Я не вижу ни столбов, ни бугорков каких-нибудь вдоль нее?
– И арабы, и верблюды видят ее.
– Что же они видят?
– Смотри лучше; вон – указал он мне на какой-то белый предмет.
– Что это такое?
– Голова верблюда; а вон еще ноги. Тут вся дорога в костях. Смотри; все белое – это кости, – продолжал, указывая в разные стороны, Бу-Канас.
Насколько раньше мой взгляд скользил по этим беловатым бугоркам, считая их за высокие комья солонцеватой земли, настолько же теперь я внимательно вглядывался в них и к своему удивлению замечал, что все эти белые бугорки оказывались костями. Они были разбросаны всюду. Большая часть из них едва-едва виднелась из земли, но были и совсем свежие, не засыпанные еще пылью Сахары. Бу-Канас сказал верно; к чему здесь столбы или ямы, когда ехать приходилось по громадному верблюжьему кладбищу, густо усеянному костями.
Всякие кладбища наводят меня на грустные мысли, но эта дорога – кладбище в пустыне – произвела на меня удручающее впечатление. Мне живо представилась картина смерти верблюдов и отчаяние людей. Сколько тяжелых сцен совершилось здесь на каждом клочке земли!
Все здесь говорило о смерти и ничто о жизни! Ничего не было веселого и в нашем маленьком караване.
Бу-Канас дремал или молчал, верблюды уныло переступали ногами и, как маятники, раскачивали своими изогнутыми шеями. Один только раз верблюд Бу-Канаса раскрыл рот и заревел, но тут же, как бы сконфузившись замолк.
Я шагал впереди верблюдов и чувствовал себя, как рыба, вынутая из воды. Пустыня была не для меня. Она была чужда мне, неприятна.
Долгое отсутствие воды, растительности и людей, медленное передвижение и сознание, что мы еще только завтра доберемся до оазиса, еще более нагоняли на меня тоску.
Я не вкушал даже прелести предстоящего отдыха, хотя Бу-Канас предполагал через час остановиться на ночлег.
Увы, этот отдых пришлось сделать еще скорее, чем он этого желал. Его верблюд вдруг как-то странно рявкнул, покачнулся и упал на землю. Бу-Канас свалился вместе с ним, но сейчас же поднялся – и живо принялся развьючивать его.
Сначала я не сообразил, в чем дело. Мне казалось, что верблюд оступился или просто желал освободиться от седока.
Бу-Канас развьючил его в одну минуту, стал дергать, кричать на него... Верблюд лежал на боку и не делал попытки не только вставать, но и кричать. Голова его лежала на земле и глаза потускнели.
Если бы он мог думать так, как люди, то несомненно в его последнем взоре должен был бы выразиться укор людскому бессердечию. Он сделал несколько конвульсивных движений ногами, хриплых стонов и перестал дышать. Такая неожиданная и быстрая смерть ошеломила нас.
Бу-Канас присел возле него и огласил пустыню жалобными причитаниями на свою судьбу. Невесело стало на душе и у меня от этих причитаний! Положение наше было не из приятных!
Приходилось отказаться не только от дальнейшего путешествия, но и само возвращение наше на одном верблюде представляло большие затруднения. Оно усугублялось еще тем, что верблюд при своем падении придавил мешок с водой и вся вода вытекла. Теперь у нас оставался лишь один мешок, наполовину наполненный водой.
Пока Бу-Канас разбирал тюки и сетовал на свою неудачливость, начало уже смеркаться.
Оставаться возле мертвого верблюда мне было неприятно. Взвалив кое-как все тюки на моего верблюда, мы отошли с полверсты в сторону и решили заночевать.
Начали соображать, как нам быть. Я отклонил мысль Бу-Канаса ехать до оазиса, чтобы там взять другого верблюда и возвращаться домой.
При экономии с нашей водой можно было протянуть дня два. Идти же в глубь пустыни мне казалось страшным. Возле Тугурта все же чаше можно встретить живых людей, чем вдали от него.
Я даже предложил ему идти сейчас же обратно, но, наученный горьким опытом, Бу-Канас теперь вспомнил, что если не для нас, то для верблюда отдых необходим. А, кстати, завтра при свете нужно было разобрать все наши тюки, чтобы бросить лишнюю провизию, которую мы закупили на целые десять дней.
Плохо спалось нам обоим. Я часто слышал, как ворочался и вздыхал Бу-Канас. Иногда мы перекидывались с ним словечками и вновь впадали в дремоту. Под утро я заснул лучше, но утренний холод разбудил меня.
Бу-Канас, держа за веревку верблюда, творил намаз (молитву). На этот раз он молился долго и очень усердно.
Верблюд неподвижно стоял и пережевывал жвачку. Сзади него вырисовывался темный труп его товарища. Этот труп вновь вернул мои мысли к печальной действительности.
Быстро и торопливо мы выпорожнили все наши мешки, отобрали провизии всего лишь на 3 дня, а остальную оставили тем счастливцам, которые будут проезжать мимо.
Бу-Канас говорил, что не мы одни так делаем... Иногда караван бросает много тюков с товарами, лишь бы верблюды и люди могли благополучно добраться до какого-нибудь оазиса. Особенно часто это происходит тогда, когда караваны застигает сирокко. После него всегда слабые верблюды уже не в состоянии нести никакого груза, а некоторые и совсем издыхают.
Бу-Канас заботливо сложил всю провизию в одно место, чтобы легче было заметить её, и мы двинулись. Но едва мы отошли несколько шагов, как он хлопнул себя по ногам и воскликнул:
– Ах, какой я глупец!
– Почему? – спросил я.
– Я забыл амулет! Он на том верблюде, – с сокрушением произнес Бу-Канас.
– Ведь не спас этот волшебный амулет от смерти верблюда, значит он никуда не годен.
– Как можно так говорить! Нужно взять его!
– Ну, уж я не согласен делать остановку из-за него! Нам еще 40–50 верст нужно идти, – рассердился я на глупость Бу-Канаса.
– Ты с верблюдом иди, я вас догоню, – успокоил меня Бу-Канас.
– Как знаешь, – ответил я и тотчас вслед за этим Бу-Канас побежал за волшебным амулетом. Минут через двадцать он догнал меня.
– Нужно его привязать для счастья этому верблюду, – сказал он.
– Смотри, как бы от такого счастья и этот верблюд не издох бы...
– Как ты можешь так говорить! Нехороший у тебя язык, – обиделся на меня Бу-Канас, но тем не менее подвязал к шее верблюда грязный ком тряпья.
Часа через три мы опять достигли песчаных дюн, а к 10-ти сделали привал на старом месте. То обстоятельство, что Бу-Канас не ошибся и привел как раз на старое место, меня немного ободрило.
С неожиданной смертью верблюда, ужасы пустыни рисовались в моем воображении еще более ярко, чем раньше. Я часто глядел на нашего верблюда и ожидал, что и он так же неожиданно свалится на землю и своими костями будет указывать правильную дорогу путешественникам.
На этот раз Бу-Канас внимательно следил, как пасся его верблюд, перегоняя его на лучшие места, где кусты не были объедены верблюдами... В этом верблюде теперь мы видели залог нашего благополучного возвращения. Без него наше положение сделалось бы отчаянным. Тогда пришлось бы тащить на своих плечах ружья, припасы, фотографический аппарат, воду и теплую одежду. Ничего из этих вещей, кроме фотографического аппарата, нельзя было бы бросить.
Самая тяжелая вещь у нас была вода – но разве можно в жгучей пустыне идти куда-нибудь без нее? Ружья и патроны точно также являются первой необходимостью каждого путника, предохраняя его от нападений.
А если все эти вещи нагрузить на нас двоих? Но кроме того пройти 35 верст в песчаных дюнах, без всякого груза, все равно, что сделать 50–60 верст по ровной дороге, а с грузом она стала бы и еще длиннее!
Постоянные подъемы на дюны, их осыпающийся под ногами песок, значительно укорачивали каждый шаг и создавали много лишних усилий для преодоления небольших, но частых холмов.
К концу дня мы прошли песками 6–7 часов, но я и Бу-Канас чувствовали сильную усталость. Однако и такая усталость не дала мне хорошего сна!
Сможем ли мы завтра дойти до Тугурта – сверлила мой мозг одна и та же неотвязная мысль и отгоняла от меня сон. Весь разбитый и еще более усталый, я разбудил в 2 часа ночи Бу-Канаса и начал торопить идти.
Резкий ночной холод пустыни освежил меня, и я шел довольно бодро, но когда лучи солнца обогрели песок – мне стало не по себе. Я легко переносил палящий зной первые три дня, но теперь он становился невыносимым для меня!
Еще более он сделался тягостным после полудня, когда песок раскалился, и лучи солнца жгли так сильно, что прикосновение к металлу делало на коже настоящий обжог.
Я начинал понимать, что значит путешествовать по пустыне! Чуть не каждые полчаса я прикладывался к меху с водой, но все же жажда мучила меня. Я шел как бы в полусне и если бы я упал или сел, то, пожалуй, и не поднялся бы. И верблюд, и мы еле-еле переставляли ноги, и эта медленность передвижения еще больше раздражала меня.
Опять мне вспомнилась Европа с ее курьерскими поездами, в которых есть спальные вагоны, рестораны, залы с библиотеками, пианино и т. п. За деньги можно там найти все удобства. Здесь же никакие деньги не спасают, ни от жары, ни от ночного холода, ни от жажды!
Там люди мчатся по 100–120 верст в один час, а здесь мы в этот же час двигались, вероятно, не более 2-х верст! Там поездка в 200–500 верст совершается без всяких приготовлений в один день. Моя же поездка в 160 верст в Уарглу продолжалась два дня, и мы прошли меньше половины пути!
Я снова взглянул на верблюда, но уже другими глазами, чем раньше. И своей наружностью, и своей приспособленностью к пустыне верблюд чрезвычайно интересен для каждого натуралиста. О нем следовало бы написать целую книгу. И такая книга была бы очень интересна для многих.
Для людей пустыни верблюд необходим и полезен, как никакое другое животное.
Но для европейца он теряет свое значение. Европейский ум сделал нечто более удобное и более совершенное – это моторы. И не далеко то будущее, когда в пустыне и людей и грузы будут возить на моторах.
К полуночи мы, наконец, дотащились до Тугурта. Этой неудачей и закончилась моя первая попытка проникнуть вглубь Сахары...