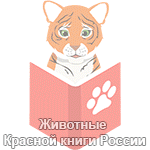Осел Упайдуллы
Автор: А. Сытин
I. Осел лавочника
II. Странный человек
III. Суд курбаши
IV. Счастливый конец
I. Осел лавочника
В три часа дня в долине, в Центральной Азии, на окраине города, под тенью огромного карагача, отдыхал маленький старый осел. Тут было прохладно, мало мух, недалеко звенел арык (канал с водой, ручей), и всегда можно было напиться. Сегодня четверг, и толстый лавочник, сплетник Упайдулла, в этот день всегда давал отдых ослу.
Завтра праздник и базарный день, Упайдулла поедет на базар, ничего не купит, а проехаться ему надо везде, со всеми поговорить; хоть бы уж слезал, когда разговаривает, а то болтает себе ногами, спрашивает цены на рис, пахту, дыни, ничего не покупая. У бедного осла под носом будут лежать и морковь, и капуста, и дыни, и ни до чего нельзя дотронуться. В такие минуты старый осел жевал, перебирая ушами, и жадно смотрел на полосатые чарджуйские дыни.
Осел давно научился перенимать характер хозяев, и теперь, когда он стал ленивым и толстым, вы никогда не могли бы подумать, что этот самый осел в молодости был настоящим разбойником. Родился он в предгорьях Тамира и сразу же попал на выучку к контрабандистам, которые возили по тропинкам мимо памирских пограничников опиум.
У контрабандистов осел прошел целую школу. Избивали его до смерти, но когда не было работы, целыми днями можно было шляться по маленьким ложбинам, где была такая сочная и высокая трава, что даже его серых ушей не было видно над ней. Он умел умненько, без погонщика пробираться по узким тропинкам над страшными пропастями. Внизу, в провалах, клубился туман и грохотали потоки, а он шел шаг за шагом, внимательно смотри под ноги, чтобы не поскользнуться. Его выучили избегать в горах всяких встреч и, когда он выходил на ровное место, где маячили фигуры часовых, он умел шмыгать в кусты, как полевая мышь.
Несколько раз одетые не в халаты люди, от которых вовсе не пахло бараниной и пловом, как от его хозяев, принимались его ловить между обломками скал, и два раза он попадался. Осел не знал, что он был в плену у красноармейцев, что водили его к военному следователю, и та дрянная пая (стебли зеленой кукурузы), которой его кормили, называлась казенной, но он запомнил, что этих людей надо избегать. А когда однажды ночью его украли контрабандисты и сильно вздули, он легко выучился лежать по целым часам в густой траве и прислушиваться длинным ухом, пока часовой зашуршит по траве в другую сторону.
Жизнь была суровой, но зато можно было и отдохнуть, а теперь, у нового хозяина Упайдуллы, осел знал только базар, арык, плетень и больше ничего. Осел разленился, стал скучать, характер у него испортился, и он часто начинал упрямиться. Упайдулла дрался не очень больно, и иногда можно было сделать по-своему.
К плетню подошел Упайдулла вместе с каким-то длинным, как жердь, человеком в очках. Они о чем-то говорили между собою, и осел не торопясь пошел к плетню и хотел перепрыгнуть там, где пониже, так как во время отдыха он любил уединение.
– Слушай, Упайдулла, – сказал высокий человек, – Твой осел нужен мне дня на три, не больше, – я поеду в горы собирать жуков и бабочек.
Упайдулла заломил небывалую цену, но ученый тотчас же согласился, и недоумевающего осла поймали и стали седлать.
Длинный человек был энтомологом и хотел ехать именно сейчас, так как в три часа дня, во время невыносимой жары, жесткокрылые, разноцветные и иные насекомые летают, прыгают, скачут, стрекочут, кусают и пожирают друг друга в кучах растрескавшихся камней, на раскаленном песке и на ветвях кустарника, который готов задымиться от адского жара.
Упайдулла затянул подпругу, и осел понял, что его собираются грузить. Никогда ни одного осла не заставляли выходить из дому на работу в это время дня.
Осел вышел за ученым на пыльную дорогу и стал мотать головой. Длинный человек нагнулся к нему и погладил его по шее. «Драться не будет, значит, можно не идти», – подумал осел и уперся всеми четырьмя ногами. Упайдулла захохотал от восторга и подошел к длинному. Они вдвоем подняли осла и перенесли через арык, но упрямец повернулся и прыгнул назад. Это было уже слишком. Упайдулла выругался и замахнулся кулаком, но ученый его удержал, дал ослу сахару и послал слугу к себе домой за коробками и банками, в которых была вата, эфир, булавки и все в этом же роде.
Потом он достал из кармана зеленую кисею, которую нацепил на пробковый шлем на голове, поправил длинный зеленый сочок, и через полчаса, маленький осел семенил четырьмя копытами по улицам, а на нем, поджав ноги, чтобы они не волочились по земле, громоздился длинный человек с зеленой кисеей на шлеме. Из жителей города никто этого не видел, так как все окна и двери были завешены от жары мокрыми простынями и тряпками, и только Упайдулла, вышедший проводить ученого, схватился за живот от хохота.
– Кайсы катта Ахмак кегяды! (Какой большой дурак проехал). – Он хохотал до слез, пока длинная фигура на ослике не скрылась за углом.
II. Странный человек
По выезде за город, на длинных и песчаных холмах, так называемых адыра, Яворский – такова была фамилия ученого – слез с осла и саженными шагами побежал за каким-то стрекочущим насекомым. Он то скрывался в ложбинах, то реял зеленой вуалью шлема над буграми, то исчезал в ямах, в которых добывали глину для кирпичей и, наконец, остановился, зажав что-то в руке. Охота началась удачно. Осел терпеливо бежал за человеком с сахаром в руке, и, когда хозяин останавливался, коробка с эфиром всегда была рядом.
Дальше дороги пошли в гору. Черные и красные скалы гранита были разбросаны цветными пятнами. Кусты ежевики величиной с небольшой дом раздваивали тропу, и ослик сворачивал в сторону. Внизу позади осталась желтая долина с серо-зелеными полосами фруктовых садов. Ярко-золотые, созревшие посевы чередовались с черными квадратами рисовых болот, которые иногда сверкали на солнце, как зеркало. Впереди, насколько видел глаз, скалы, холмы и небольшие горы наваливались друг на друга все выше и выше. Это начиналось предгорье Великого Памира, а далеко в сторону голубым провалом уходила Алтайская долина, и за ней в ясном небе, выше голубого тумана, белели снежные шапки гор.
Но нашим путешественникам некогда было обращать внимание на природу. «Улетит, уползет, спрячется, – не увижу». Вот все, что занимало Яворского, для которого огромная панорама с далью на сто верст была чем-то вроде комнаты с открытым окном.
Бедный осел вовсе не знал, что ему делать. Сперва ему вспомнились былые дни жизни у контрабандистов, и, когда ученый вставал с него, как со стула, и бежал саженными шагами в одну сторону, осел бежал в другую. Коробки, банки и пузырьки звенели и тарахтели, но осел, привыкший оберегать опиум, добегал до уютного места между скалами, ложился набок и вслушивался, подняв серое ухо.
Но сегодня все было очень странно, и, когда удавалось спрятаться, хозяин находил его, давал сахару и вел за собою по кустам. Осел выбегал на тропу и видел, как странный человек бегал, суетился и махал зеленым колпаком по воздуху, как сумасшедший. Раза два он даже полез на дерево, и осел, которому вовсе не нужны были звенящие цикады, окончательно потерял голову. Его не били и кормили сахаром, но чего от него хотят, – понять было невозможно.
Осел давно косился на таинственных всадников, которые, так ловко прятались, что Яворский их не замечал. Осел пугался, когда неожиданно видел острые шапки басмачей (бандитов), выглядывавшие из-за утесов, но всякий раз, когда собирался дать стрекача, его хозяин замечал бабочку, бежал за ней сломя голову и манил сахаром осла за собой.
Осел запыхался от этой беготни и хотел спрятаться, чтобы полежать и отдохнуть, но из-за куста поднялись два человека в толстых халатах с меховыми острыми шапками и бросились сзади на пробегавшего Яворского в тот момент, когда он гнался за огромной синей бабочкой. Они сбили его с ног, но жилистый сильный человек разбросал их в разные стороны. Из-за кустов, из высокой травы, поднялась целая куча народа, эти люди замелькали цветными халатами и молча навалились на Яворского. Несколько секунд куча тел ожесточенно копошилась, лежа на земле, потом все молча поднялись и поставили на ноги связанного энтомолога.
Осел, приученный часами бродить отдельно, следя за хозяином, юркнул в кусты и исчез. Пленника бросили, как тюк, поперек лошади впереди седла, и отряд человек в двадцать рысью зашумел вниз, в сторону от дороги. Сонно тиликали птицы, молча жгло высокое солнце, и только примятая на поляне трава говорила о разыгравшейся схватке.
III. Суд курбаши
Мрачный и грозный, как голодный медведь, курбаша (предводитель шайки) Кур-Ширмат сидел на груде подушек и чинил допрос пленным. Он только что окончил допрос двух телефонистов, женщины и учащегося подростка и, приказав их зарезать, повернул голову к приближавшейся группе всадников. Недалеко от курбаши что-то затарахтело в кустах, он оглянулся, но никого не увидел, а подъехавший старший разведки рассказал ему о пленнике. Кур-Ширмат сегодня вечером намеревался напасть на пригород, а потом идти за Дарью, кроме того – не в правилах курбаши было отпускать кого-нибудь, и потому, узнав, что пленник не красноармеец, приказал бросить его в водопад без допроса.
Всадники хотели тронуться к водопаду, но в кустах опять раздалось звяканье, и осел выглянул на поляну. Увидев столько народу, осел потоптался на месте и сунулся назад, но его догнали и вздули так, что, наверно, Упайдулла показался теперь ему кротким человеком.
Кур-Ширмат раздраженно взмахнул рукой, и взъерошенный избитый осел предстал перед ним. Все коробки и банки были сняты и переданы курбаше. Осел, привыкший получать из коробки сахар, дал маху и тронулся вперед, за что получил такого же тумака, какие получал во время работы с контрабандистами. Курбаша взял пузырек эфира, понюхал и вылил немного на руку, руке стало холодно, но она была сухая. Осел стоял и смотрел так упорно, что казалось, будто он с интересом наблюдает опыты Кур-Ширмата. Кур-Ширмат нахмурился и вылил все. Руке стало холодно, жидкость потекла за рукав, и снова рука стала сухая! Кур-Ширмат изумленно смотрел на руки и молчал. Он не хотел говорить о том, чего не понимал, чтобы не подрывать своего авторитета, и свирепо посмотрел на старшего разведки.
Пока что осел спас Яворского, приговоренного к смерти, своим появлением; курбаша заинтересовался эфиром, и изумленного ученого посадили рядом с ним на подушку. Осел вспомнил про сахар и хорошее обращение, юркнул между басмачами и стал рядом с энтомологом. На этот раз его не прогнали. Бледный, задыхающийся энтомолог вынул из кармана кусок сахару и, улыбаясь, отдал ослу.
Басмачи зашевелились и зашептались, а благородный осел хрустел сахаром и помахивал хвостом. Он чувствовал себя спокойно и уверенно, все кругом было такое привычное: люди были в полосатых халатах, от них пахло бараниной, – очевидно, свои, вздуют да и выпустят! Яворский машинально стал шарить по карманам и доставать жуков, завернутых в эфирную вату. Оказалось, что все они были целы и ни один не смялся во время борьбы. Курбаша, вытаращив глаза, смотрел на ученого, осел задумчиво жевал и поводил ушами, а бледный энтомолог перебирал на ладони свои драгоценности. Курбаша вдруг испуганно побледнел и приказал подать остальные коробки.
В одной из них была вата, и курбаша растрепал ее руками. На дне коробки была полосатая желтая бабочка, и Кур-Ширмат с недоумением поднес ее к лицу. Это был экземпляр махаона, еще неизвестного науке. В глазах ученого появилось страдание, и он окончательно пришел в себя. Курбаша повертел бабочку и нечаянно отломил ей крыло.
С пленником произошло что-то неслыханное: он так быстро вскочил на ноги, что осел испуганно шарахнулся в сторону, и протянул дрожащие руки к изумленному басмачу, умоляя и требуя осторожности. Не надо было знать языка, чтобы понять, что изломанная мертвая бабочка была дороже жизни этому человеку. Осел снова протискался к хозяину и получил сахар.
– Дувана! (сумасшедший) – испуганно и почтительно зашептали кругом басмачи.
Курбаша кивнул толмачу. Переводчик обратился к Яворскому с вопросом, но тот молчал с протянутой рукой и, когда Кур-Ширмат положил ему на ладонь махаона, он бережно положил к нему отломившееся крыло, твердя одно и то же латинское название семейства. Толмач снова спросил его, зачем он приехал в горы, и ученый стал говорить о жуках.
– Дувана! – сказал ему прямо в лицо Кур-Ширмат, выслушав перевод. Лицо курбаши выразило непривычную ему ласку и сострадание. Он хлопнул в ладоши, и Яворскому подали пиалу кумыса из чанача, привязанного за седлом одного из басмачей.
Ученый, привыкший говорить с женой о значении науки, выпил кумыс, встал и, не задумываясь, начал говорить толмачу о жуках. По своей великой рассеянности, он сыпал латинскими названиями, как горохом; толмач переводил, что успевал понять, а Кур-Ширмат и остальные после каждой фразы толмача наклоняли головы и хором твердили:
– Дувана! Дувана!
Осел так неподвижно смотрел в землю, как будто боялся прослушать какое-нибудь латинское название, и с видом академика поводил ушами. Вид у него был необычайно рассудительный, а когда лектор дошел до перепончатых и жесткокрылых, он слегка удивился. Вероятно, его мысли приняли обычное направление. Вся история должна была окончиться скоро. Ведь груза не было; бежать было так легко, а если груз и был, так легкий, значит, не придется идти к следователю, и есть казенную пищу, от которой на второй день пухнут десны. В конце лекции осел ни с того, ни с сего заорал благим матом, и его отогнали.
Кур-Ширмат спросил об эфире, но, когда ему опять сказали о жуках, он колыхнулся от смеха всем своим тучным телом и приказал толмачу писать пропускную грамоту.
Когда бумага была готова, неграмотный Кур-Ширмат важно окунул большой палец правой руки в чернила и, положив бумагу на голову склонившегося толмача, пришлепнул палец вместо печати. Он облизнул палец, вытер его об халат и улыбнулся до ушей.
– Хайер, дувана! (Прощай, сумасшедший,)
IV. Счастливый конец
Осел был прав! Вся история окончилась быстро и благополучно, и они тронулись к городу. Яворского посадили на коня, а осла привязали на толстую длинную веревку, и он бежал рысцой, позванивая своими банками. Передний всадник высоко держал над головой грамоту Кур-Ширмата. Недалеко перед городом около хлопковой баррикады, где помещалась красноармейская застава, гремели выстрелы.
Бедный осел бросился назад, он хорошо знал, что надо удирать, но басмач потянул веревку к себе и не пустил, а вперед выехал всадник с распущенной белой чалмой на палке. Это был парламентер. Яворский пересел на осла и вместе с басмачом тронулся к баррикаде. Выстрелов не было, и осел по привычке пустился бегом, рассчитывая пробежать мимо солдат, но его с хохотом схватили под уздцы.
Басмач поднял высоко бумагу, бросил на землю и повернул вскачь назад. Бумагу подняли, стали переводить, а красноармейцы, знавшие Яворского по лекциям в клубе, предлагали ему ломти дыни, папиросы и ухаживали за ослом. Осел ел так скромно, как будто не хотел показать, что спас ученому жизнь эфиром, который так вовремя подсунул Кур-Ширмату.
Грамоту перевели: «Я верный слуга эмира Бухарского (да хранит его Аллах!) курбашу и командир его конницы, приказываю пропустить и не трогать этого человека и его осла. Да не обидит рука воина ни одного сумасшедшего или дурака, отмеченного самим Аллахом!»
Взрыв громового хохота потряс воздух, снова загремели выстрелы, и испуганный осел, увлекая сидевшего на нем ученого, шмыгнул между хлопковых кип в ложбину, в которой не слышно было пуль.
Только там он вздохнул с облегчением и пошел ровной рысцой к дому Упайдуллы.