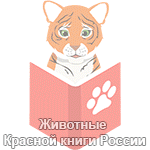Улетела
Автор: В. Авенариуса, 1903 г.
Была осень. Пожелтевшие листья осыпались с деревьев. Перелетные птицы, прогостив все лето на севере, отправлялись опять зимовать на юг.
Собрались в путь-дорогу и городские ласточки, что свили себе воздушное жилье под крышей высокого барского дома. На окне, над которым висело их гнездышко, стояла под крытою форткой нарядная клетка, а в клетке сидела маленькая желтая канарейка.
Родилась она хотя и в том же городе, но от родной матери своей, заморской канарейки, наслышалась о дальнем юге, – и ей теперь не пелось; она сидела молча и повесив головку.
Вдруг над нею весело защебетали:
– Мы летим на юг! мы летим на юг!
Канарейка подняла головку и увидела на краю фортки знакомую ей ласточку.
– Счастливые! – вздохнула канарейка. – О, если бы мне тоже можно было лететь вместе с вами!
– Зачем тебе-то на юг? – спросила ласточка. – Ты проживешь здесь до весны в тепле и холе; для тебя нет ни снега, ни вьюги.
– Что такое снег? что такое вьюга? – спросила канарейка.
– Вот уж увидишь в окошко.
– Ах, нет! Мне бы тоже на юг, на юг!
– Коли тебе так уж не терпится, то за чем же дело стало? Мы, ласточки, знаем дорогу.
– Да, если бы меня не держали здесь взаперти! Но, авось, завтра дети, когда станут класть мне семя, забудут опять притворить дверку, тогда я вырвусь отсюда и полечу с вами!
– Хорошо. Стало быть, до завтра. Мы и то замешкались. Завтра – последний срок.
В ожидании завтра канарейке всю ночь не спалось. Накануне дети на беду были в гостях, они заспались, и служанка вместо них позаботилась о птичке: вычистила клетку, насыпала корма, налила водицы и плотно-преплотно притворила дверку.
А вот ласточка снова спустилась на открытую фортку и заглянула к канарейке.
– Ну, что же, милая, еще не выбралась на волю?
– Ах, дети еще не встали! – отвечала бедная птичка. – Летите вы уж без меня. Может статься, я все же еще догоню вас.
– Нет, нет, не догонишь, – сказала ласточка: – одной тебе дороги не найти. В будущем году – другое дело. Мы опять вернемся сюда к лету. А теперь будь здорова, прощай!
– Прощай! повторила – печально канарейка. – Счастливый путь!
Недолго погодя, знакомка ее в самом деле, с целою стаей таких же ласточек, с радостным свистом взвилась на воздух и скрылась из вида.
А нашей канарейке еще пуще взгрустнулось. Маленькое сердечко ее так и ныло, не давало ей покоя; и залилась она жалобною песней: слезы птицам ведь не даны, они плачут только в песнях.
– Что это с нашей киночкой? как она странно поет? – говорили дети. – Как бы она не заболела.
Но канарейка только грустила, а грусть, боль душевная, иной раз куда еще тяжелее телесной боли.
– Нет, я этого не выдержу! – говорила про себя птичка. – Во что бы то ни стало, я вырвусь вон отсюда!
Но дни шли за днями, а случая ей к тому не представлялось. Настали утренники, крыши домов забелели инеем.
– Что бы там ни было, – твердила канарейка, – я хочу на волю, на юг!
И вот однажды дети, точно, второпях не притворили, как следует, дверку клетки. Канарейка толкнула дверку и выпорхнула вон.
– Держи ее, держи! – кричали дети, гоняясь по комнате за птичкой.
Но та не давалась, хотя уже заметила, что фортка на улицу закрыта.
– В залу-то дверь притворите! – крикнула детям их мать, – там форточка открыта.
«Открыта!» Не успели дети исполнить приказание матери, как канарейка пролетела уже в зал, прямехонько к фортке, ликуя чивикнула: «Прощайте» – и была такова!
Вот она и на воле. Но, не привыкнув еще летать, она едва долетела до ближайшей крыши, как должна была присесть – отдохнуть.
– Вон она! вон, напротив нас, на крыше! – кричали дети, увидев ее в фортку.
– «Да, да, кричите себе, кричите», – думала про себя канарейка, – «теперь вам меня уже не удержать».
На дворе стоял легкий мороз, но канарейке от движения и волнения было жарко. Немножко передохнув, она перенеслась на другую крышу, оттуда на третью.
– «На воле! О, чудное чувство!»
Вдруг из-за соседней трубы показалась усастая морда кота. Как заколдованная, канарейка не могла шевельнуться и уставилась в лукавые зеленые глаза страшного зверя испуганными глазками. А он ласково шевеля хвостом, на мягких лапках тихонько-тихонечко подкидывался к ней – и вдруг отчаянный прыжок.
– Ай!
Едва-едва она в последний миг поднялась с крыши; однако когти злодея ее все-таки слегка задели: два-три перышка с ее хвостика разлетелись по ветру.
Без оглядки она мчалась вперед да вперед, куда глаза глядят; через крыши да трубы, пока совсем сил не стало.
Спустилась она на этот раз уже на деревянный забор постоялого двора, на краю города. Внизу, под забором, стояло несколько мужицких возов; по земле же, около возов, прыгала целая компания воробьев и клевала просыпанный кругом овес.
Тут канарейка в первый раз вспомнила, что с раннего утра ничего не ела. Робко вспорхнула она вниз и стала также клевать рассыпанные зерна. Непривычный корм был так невкусен, – да что же делать? Она так проголодалась!
– Чирик-чирик! вы откуда? да по какому праву? – напустился на нее большой старый воробей.
– И как безобразна: совсем желтая! – подхватил другой воробышек, охорашивая на себе свои простые серые перья.
До сих пор канарейка была уверена, что золотисто-желтое платьице ее пренарядно, а теперь вдруг ее находят безобразною!
Вся стая воробьев окружила непрошенную гостью и с задорным криком принялась допрашивать ее: откуда она, куда и зачем?
– Я улетела из неволи и собираюсь на юг, – отвечала канарейка. – Не знает ли кто из вас, в какую сторону полетели ласточки? Мне надо догнать их.
– Мы не знаемся с этими гордячками! – обиженно заметил старый воробей.
– Но не можете ли вы хоть указать мне, где юг?
До юга однако никому из воробьев не было никакого дела. Случайно подслушал их разговор с канарейкой бывший тут же неподалеку голубь.
– За ласточками тебе, милая, не угнаться, – сказал голубь: – до юга лететь много-много дней; а под конец надо перелететь еще большое море, где не на чем и передохнуть. Крылья же у тебя, я вижу, слабы и не донесут тебя.
– А я все же попытаюсь, – сказала канарейка. – Неужели никто мне не скажет, где юг?
– Вон спроси флюгер на крыше: он, может, и знает.
Канарейка взлетела на крышу и спросила флюгер. Он, действительно, мог указать ей направление на юг. Канарейка его поблагодарила и полетела, куда он указал ей.
Без устали летела она, без отдышки, пока крылышки снова не отказались служить. Между тем стемнело, и надо было подумать о ночлеге. На придорожной березе нашлось, по счастью, пустое гнездо, и канарейка кое-как в нем приютилась. Ночью стало еще холоднее, и она сильно прозябла; но утром солнце ее немного пригрело, и она, оправившись, помчалась далее.
Летела она день, летела и два, по временам только отдыхая около какого-нибудь человеческого жилья, где под окнами находила случайные крохи. Раза два сбилась она с дороги; но раз снегирь, в другой раз зяблик услужливо помогли ей выбраться опять на верную дорогу.
Наступил четвертый день, что она была на воле. Ах! воля эта представлялась ей уже вовсе не такою заманчивою, как в первый день!
Полсуток уже бедняжка летела глухими местами: сперва болотом, потом лесом, и не ела ни крошки. Вдобавок дождем промочило ей шубку до последнего перышка, и она еле-еле еще шевелила крылышками, а впереди все лес да лес... Тут из глубины леса донеслась к ней заунывная человеческая песня.
– «Человек!»
Она бежала от людей, а теперь голос совсем чужого ей человека звучал ей чуть не чем-то родным.
Она полетела по звуку песни. Глядь: около лесной тропинки, под развесистою старою елью сидел лохматый бродяга с дорожною сумою на коленях; в руке же у него была краюха черного хлеба, которую он, очевидно, собирался есть.
Канарейка спустилась на нижний сук ближнего дерева и чивикнула, чтобы он ее заметил.
– Ишь ты: канарейка! Откуда, родная, взялась? – удивился бродяга. – Аль кушать тоже нечего? На тебе, что ли: чем богат, тем и рад.
Ломтик краюшки упал наземь к ее ногам. Робкая птичка, однако, не доверяла миролюбию двуногого страшилища и оставалась на своей ветке.
– Боишься тоже бродяги? – усмехнулся он. – Эх-ма! своей братии я пальцем не трону. Дай только съесть, а там уйду.
Доев свою краюху, он встал, кивнул головой канарейке: «Прощай, пичужка!» и ушел своею дорогой.
Она не замедлила спуститься на брошенную ей нищим подачку; но едва только проглотила она первый кусочек, как с вышины раздался тяжелый взмах крыльев и кто-то ей, картавя, гаркнул:
– Это что у тебя, а?
Издали в окошко канарейке довелось уже как-то видеть ворону; но так близко и такую притом большую и сердитую ворону она видела в первый раз.
– Это... это у меня хлеб... – отвечала она, невольно оробев.
– Покажи-ка сюда.
– Виновата: хлеб этот – мой; мне бросил его сейчас один человек...
– Ври больше! он – мой! – нагло оборвала ее ворона.
– Давай его сюда.
– Уверяю же вас, что человек тот поделился со мною: «чем богат», говорит, «тем и рад». И я тоже, пожалуй, поделюсь с вами...
– Скажите на милость, какое великодушие! Пошла, пошла, пока всех перьев тебе не общипала.
Канарейке было ужасно обидно: сама она просто помирала с голода, готова была даже поделиться, а тут у нее, так сказать, из-под клюва вырывают ее собственное добро!
– Но это уже как будто на разбой похоже, – заговорила она с мужеством отчаянья.
– Что? что такое?! – закаркала ворона. – Еще браниться? Ах ты, такая-сякая...
И большим острым клювом своим она нанесла маленькой птичке несколько таких полновесных ударов, что та света не взвидела и упала замертво.
Пролежала канарейка так, должно быть, довольно долго, потому что когда она наконец очнулась, уже смерклось, и ни вороны, ни куска хлеба, разумеется, следа уже не было. С темного же неба сыпались и крутились в воздухе большие белые мушки.
– «Так вот он, снег-то, вот вьюга», – догадалась канарейка, вздрагивая всеми членами: нанесенные ей вороною раны так и горели, а все тельце от резкого ветра пробирала лихорадочная дрожь.
Стоявшая над нею столетняя ель сжалилась над несчастною и широко распустила сверху свои иглистые ветви. Буйный ветер не оставлял и ее в покое: она качалась, скрипела, шумела, но в этом скрипе и шуме слышался канарейке добрый старческий голос:
– Бедная крошка! милая крошка! оставайся тут, отдохни, я тебя прикрою от стужи. Прислонись ко мне ближе головой и держись вот за ветку.
И прислонилась птичка устало к старой ели, ухватилась за поданную ветку. Однако раны ее по-прежнему ныли, тельце по-прежнему дрожмя дрожало, а голод – о! голод просто разрывал у нее внутренности.
– Хоть бы одно зернышко, хоть бы один луч солнца!.. – вздыхала она тихо про себя.
Но прошла ночь, а солнца все еще не было, точно оно забыло про землю. Зато снег продолжал валить без конца густыми хлопьями, а метель на лету их подхватывала и рассыпала туда, куда иначе им нельзя было забраться. Так, несмотря на защиту старой ели, и канарейку нашу заносило уже снегом.
– Держись крепче, держись крепче, моя крошка! – повторяла старая ель. Ничем более ведь она не могла помочь птичке
А у той все тельце уже как бы замлело, глазки сами собой смыкались. В последний раз попыталась она распустить крылышки, но те уже окоченели.
– «Конец...» подумала канарейка: «но мне так хотелось на юг!..»
Глазки ее закрылись; она не в силах уже была держаться за еловую ветку и скатилась в рыхлый снег, который, как одеялом, тотчас прикрыл ее. И стало ей там, под снегом, вдруг так тепло, боль в ранах разом унялась, – и приснилось ей, что она уже там, на далеком солнечном юге...