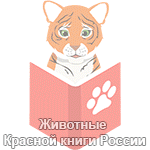В стойлах
Автор: И. Любич-Кошуров и Л. Медведев, 1902 г.
I. Рыжий и Фельдфебель
II. Немец
III. Конь-пахарь
IV. Рассказ скакуна
V. Враг нечистой силы
VI. Из жизни Фельдфебеля
VII. Нечто о цыгане
I. Рыжий и Фельдфебель
Рыжий стоял под деревом, прислонившись боком к его стволу и обмахивался хвостом.
Под деревом, в тени, было все-таки не так жарко, как прямо под палящими солнечными лучами. Кроме того, тут было значительно меньше оводов.
Когда какой-нибудь овод садился Рыжему на бок или на круп, Рыжий искоса взглядывал на него одним глазом и затем плавно взмахивал своим жидким хвостом и хлопал овода концом хвоста, совсем как хлопушкой.
Рыжий был простой коны рабочий.
Шерсть у него на шее и на боках около хребта вытерлась совершенно от хомута и седельника, и кожа в этих местах была какого-то неопределенного цвета и жесткая, как подошва.
И если Рыжий замечал, что овод собирается сесть ему на хребет или на шею, на вытертое место, он смеялся про себя коротким, но вместе с тем язвительным смехом.
– Ы-гы-гы-гы...
И смотрел на овода также язвительно и не без скрытого злорадства. Он хорошо понимал, какое горькое разочарование ждет овода. Он знал, что на этот раз от овода, его лучше всякой брони защитят его честные, нажитые неустанным трудом мозоли. И так как он был совсем простой господин и не умел скрывать своих чувств, он смеялся прямо в глаза оводу:
– Ы-гы-гы-гы!..
Иногда он также говорил:
– Что, взял, кровопивец?
– А вы бы сначала научились говорить правильно! – гудел ему в ответ овод. – Как были вы до сих пор мужиком и невежей, так раз навсегда и останетесь.
Тут овод делал быстрый круг в воздухе и снова опускался на Рыжего, только уже где-нибудь в другом месте.
– Вот тебе и мужик, – говорил Рыжий и хлопал его хвостом.
При этом он замечал:
– Раз!
И не переставая слегка шевелить хвостом, он внимательно следил за каждым движением своего настойчивого врага. А когда овод опять садился на него, снова хлопал его хвостом и снова говорил:
– Раз!
Овод быстро улетал в сторону со злобным гуденьем:
– О, чтоб тебя!.. Обойдусь и без тебя.
И, казалось, он точно решил оставить Рыжего в покое.
Рыжий слышал, как постепенно затихало вдали его гуденье. Но через какую-нибудь минуту овод поворачивал назад и с утроенной быстротой, подобно пуле, устремлялся опять на Рыжего, теперь уже по прямой линии.
Но Рыжий был настороже и, когда следовало, сейчас же пускал в ход свой хвост.
Конечно, нельзя сказать, чтобы это было очень веселое занятие – гонять оводов, но Рыжему оно доставляло некоторое развлечение.
Он только что позавтракал и находился в довольно благодушном настроении.
Сегодня был праздник. На целый день Рыжего пустили пастись на луг, и Рыжий знал, что его никто не станет тревожить до самого вечера. Ему только было немного скучновато в полном одиночестве.
Его старый приятель, серый конь, по прозванию Фельдфебель, повез барина на станцию железной дороги, и Рыжий ожидал его назад не ранее, как через несколько часов.
На прощанье Фельдфебель сказал Рыжему, зачем он везет барина в город.
Барин поехал принять на станции железной дороги нового коня.
У помещика был сын, служивший в военной службе, в одном из кавалерийских полков, квартирующих в столице. Теперь он переменил род деятельности и перешел на службу в гражданское ведомство. Он, однако, пожелал, в память своей военной службы, оставить у себя своего коня. Лошадь была хорошая, породистая. И вот, молодой человек написал отцу письмо, в котором убедительно просил позволения отправить его лошадь в деревню. Отец выразил на это свое согласие и, уведомленный телеграммой о дне, когда лошадь прибудет по месту назначения, отправился за нею.
Про этого нового коня Фельдфебель, слышавший кое-какие разговоры между кучером и конюхом, знал немного, а именно только то, что у него стриженый хвост, и что он рыжей масти.
– В таком роде, как у тебя, – сказал он Рыжему.
Рыжий с Фельдфебелем были старые друзья.
Когда-то Фельдфебель служил в артиллерии и на нем ездил фейерверкер.
Собственно его следовало бы назвать фейерверком, но дело в том, что конюх Потап служил сам в пехоте, артиллерийские чины знал довольно плохо, а потому он и придумал фельдфебелю пехотное прозвище.
Когда случалось свободное время, Фельдфебель любил рассказывать о своих походах, о том, как он в дни своей военной деятельности, таскал орудия и зарядные ящики.
Фельдфебель видел на своем веку всякие виды... Пришлось ему между прочим и на настоящей войне побывать.
В одном сражении он даже был контужен осколком гранаты в левую ногу и после того, вплоть до настоящего времени, хоть и вылечился, слегка прихрамывал на эту ногу.
Потому собственно на нем никогда не возили ни снопов, ни других тяжестей, никогда не запрягали ни в соху, ни в борону.
А так как Фельдфебель был все-таки довольно резв на ходу, то ездил на нем преимущественно сам барин в легком шарабане, либо в дрожках.
Вообще, ему жилось недурно. Не то, что Рыжему.
Рыжий, вернувшись вечером с работы, обыкновенно сейчас же засыпал мертвым сном, и когда утром Фельдфебель спрашивал у него, что он видел во сне, имел обыкновение отвечать почти всегда одно и то же:
– А ничего.
Потом он сам обращался с вопросом к Фельдфебелю:
– А ты?
Фельдфебель, в ответ на этот вопрос, делал мечтательные глаза и говорил:
– Бомбардира.
Или:
– Канонира.
И когда он видел во сне одного из этих военных чинов, он весь день потом держал себя с лошадьми необыкновенно гордо.
Правда, нельзя сказать, чтобы ему постоянно снились канонир и бомбардир, но и это было хорошо, что они ему все-таки снились.
Неизвестно также, что именно эти канонир и бомбардир делали с ним во сне. Может быть, они и не очень церемонно с ним обращались, но Фельдфебель, все равно, в настоящее время чувствовал себя в полной безопасности как от канонира, так и от бомбардира.
Иногда он даже позволял себе говорить о бывших начальниках совсем уже несуразные и маловероятные вещи.
Так, однажды он сказал Рыжему:
– А знаешь что, Рыжий...
– А что? – спросил Рыжий.
– Приснилось мне, душа ты моя, будто я пью чай с его высокоблагородием, самим господином батарейным командиром.
Конечно, мало ли что может присниться.
Однако, переходим к рассказу.
Из города Фельдфебель вернулся уже после обеда, и когда его привели для отдыха на луг, то сообщил Рыжему, что «покупочка» (так он не без некоторой насмешливости и даже некоторого, ничем, впрочем, необъяснимого недоброжелательства, называл вновь приведенную барином лошадь) находится уже в конюшне.
Несколько времени спустя, Рыжего отвели в конюшню, и он, войдя в стойло, принялся рассматривать «покупочку».
II. Немец
Новоприбывший, которого конюх Потап поставил в одно из свободных стойл, был рослый рыжий конь с красивой головой, умными, хотя и несколько сердитыми глазами... Тощим его назвать было нельзя, но слово «сухопарый» или «поджарый», как нельзя более подходило к определению его не совсем обычной наружности.
Шея у незнакомца была длиннее обыкновенной конской шеи, а ноги, хоть и мускулистые, свидетельствующие о несомненной силе, но вместе с тем такие тонкие, что, казалось, вот-вот они возьмут да и сломаются. Грива, несколько более темная, чем остальная шерсть, была тщательно подстрижена и гладко расчесана скребницей, хвост тоже аккуратно подстрижен.
Вообще, новоприбывший, видимо, бывал в хорошем обществе и любил заниматься своей наружностью, т. е., собственно говоря, его наружностью занимался не сам он лично, но ухаживающие за ним люди.
– Ну, брат Васька, вот тебе и место, – сказал конюх Потап, и при этом несколько раз довольно основательно похлопал по шее нового квартиранта конюшни...
Вероятно, эта грубая ласка пришлась не совсем по вкусу рыжему коню: он недовольно фыркнул и сердито затопал ногами.
– Ишь ты, злющий, – с усмешкой сказал конюх Потап, после чего крепко привязал поводья к решетке кормушки.
Затем он принес изрядную охапку сена, которую и предложил, так сказать, к услугам новой лошади.
– Ешь, братец мой, на доброе здоровье, – промолвил конюх Потап и, осмотрев, все ли как следует обстоит в конюшне, пробыл там еще минуты три, самое большее четыре, и удалился по своим личным делам.
Новый конь сперва с некоторым брезгливым чувством осмотрелся кругом и потом медленно принялся жевать сено.
Новоприбывший, как можно было заметить, несколько проголодался с дороги, но не совсем доверял достоинствам предложенного ему сена. Однако, сено оказалось свежее, душистое, вообще очень приятное на вкус, так что чувство недоверия весьма скоро перешло в чувство самого полнейшего удовольствия.
Рыжий конь снова фыркнул, но уже совсем не таким тоном, как тогда, когда конюх Потап вздумал так неделикатно хлопать его по шее, теперь его фырканье выражало нечто иное, что при передаче на обыкновенную человеческую речь можно было перевести так:
– Гм... в общем, однако, здесь кормят недурно! Пища, быть может, и простая, деревенская, но вкусная и сытная. Сено, во всяком случае, очень хорошее. Интересно было бы теперь узнать, каков-то будет овес!
Новоприбывшего коня не на шутку интересовал этот вопрос. Он даже хотел обратиться за соответственными разъяснениями к соседу, но, желая сохранить сознание собственного достоинства, от вопроса удержался.
И он был очень доволен, когда сосед первый нарушил молчание.
– Послушайте, господин, – сказал тот, видимо, несколько робея и конфузясь, – вас, кажется, прозывают Васькой?..
Новый конь выразил на своей морде сильное изумление.
– Васькой?! Откуда вам могло прийти в голову такое нелепое имя? – отозвался он.
– Но, кажись, ведь, вас так назвал конюх Потап, – сказал сосед.
– Конюх Потап? Это кто же такой?
– А тот, который привел вас сюда. Разве вы не знаете, что это Потап.
– Ах, да, – сказал новый конь, – это вы говорите о том мужике... Да, да, он, действительно, назвал меня каким-то странным словом, но это, я так думаю, по деревенскому невежеству... О, и меня называют совершенно иначе... Во всяком случае, очень приятно познакомиться. Мое имя, если это для вас интересно, Фис-де-л’Эр.
– Как?
Рыжий даже глаза вытаращил от удивления. Никогда еще в течение всей своей жизни ему не приходилось слышать такое диковинное и вместе с тем труднопроизносимое прозвище.
– Фис-де-л’Эр, к вашим услугам, сэр, – с достоинством проговорил новый конь.
– Что же это значит? – продолжал удивляться Рыжий.
– По-русски это означает Сын Воздуха, – с необычайной любезностью пояснил конь с мудреным именем.
Надо заметить, что хоть он и говорил достаточно чисто, так, что его хорошо могла понять всякая русская лошадь, но все-таки в его произношении слышался иногда довольно значительный иностранный акцент.
– Вы, стало быть, немец? – спросил Рыжий, который, по простоте душевной и деревенской необразованности, предполагал (и твердо был в этом убежден), что все иностранцы непременно должны быть немцами.
– О нет, сэр – ответил новоприбывший, – я никогда не был немцем... Имя у меня французское, но сам я, хоть и родился в России, происхожу от английских родителей.
Изумлению Рыжего не было предела. Что такое французское имя и английские родители, он совершенно не мог понять.
– Так, значит, не немец? – переспросил он вторично.
– Англичанин, англичанин, сэр, – еще раз объяснил конь с мудреным прозвищем.
– То есть, это что же... народ такой, что ли? – начал уже, хоть все еще довольно туго, соображать Рыжий.
– Да, да... англичане... Это такой народ... Англия... такая страна.
– Земля, значит, такая... чужеземная.
– Вот, вот именно так, – обрадовался новый конь.
По-видимому, он, несмотря на некоторую гордость, был очень доволен тем, что его простодушный и словоохотливый сосед, казавшийся ему крайне добродушным созданием, начал его понимать.
Лошади имеют некоторое преимущество перед людьми. Они не избавлены от ложной гордости, но в общем разница в происхождении и общественном положении не играет у них такой сильной роли, как это замечается среди представителей человеческой расы.
Не менее был доволен и Рыжий. Теперь он многое понял... Он уже раньше, хоть и в достаточной мере смутно, знал, что кроме русской земли, есть еще Неметчина и Туретчина, что, кроме русских, есть еще немцы, турки и цыгане, а теперь узнал, что, как оказывается, есть еще и какая-то новая земля, где живет какой-то новый народ.
– Англичане... так, так... Стало быть, понимаю, – самодовольно сказал Рыжий, чувствуя, что и он, как говорится, не лыком шит и кое-что понять может не хуже всякого другого.
Здесь надо еще заметить, что хоть Рыжий и был, что называется, «настоящая деревня», но был конь не глупый; к тому же он не мало на своем веку побеседовал с Фельдфебелем и от него все-таки кое-чему научился.
Тут оба коня, удовлетворенные тем, что, так или иначе, пришли к обоюдному соглашению, некоторое время помолчали. Слышно было, как они жевали сено. На этот раз первый прервал молчание Фис-де-л’Эр.
– А у вас, знаете ли, очень недурное сено, – сказал он.
– Ничего, – отозвался Рыжий, – сенцо у нас хорошее, это что и говорить.
– А скажите, пожалуйста, – спросил мудреный конь, – овес у вас как?
– Овес? Овес у нас тоже хороший, экономический овес, – отвечал Рыжий.
Потом он чуточку помолчал, а затем, хлопнув себя хвостом по задним ногам, произнес таким тоном как это только может произнести лошадь, вполне убежденная в полной справедливости сказанных слов.
– Вообще, харч у нас хороший, жаловаться нельзя. Ну, так при работе иначе и невозможно, а то живо отощаешь...
И тут он с некоторым сожалением посмотрел на соседа. Сосед показался ему очень уж сухощавым.
Рыжий, однако, ему этого не высказал, но зато подумал про себя:
– Поживет у нас в деревне малую толику времени, так живо потолстеет.
Увы! Он даже и не подозревал того, что Фис-де-л’Эр менее всего желал бы потолстеть, и что именно своей-то худобой и подсушенным видом он дорожит более всего, что именно в этом и заключается его породистая гордость.
Так, и среди лошадей бывают совершенно различные взгляды на жизнь.
А первое впечатление от нового знакомства было таково:
– Хоть он и немец... или... как, бишь, там его... ну, да одно слово, немец, – думал Рыжий, – а конь ничего себе, обходительный, разговорчивый... все веселее будет.
– Сосед мой, кажется, простоват, – размышлял Фис-де-л’Эр, – но, насколько можно судить по первому впечатлению, добряк большой руки (может быть даже, Фис-де-л’Эр подумал большой ноги», так как у лошадей, как хорошо известно всякому, рук не имеется), а в общежитии и такое качество не дурно...
И обе лошади, удовлетворенные друг другом, не без удовольствия стали жевать сено.
III. Конь-пахарь
– Земляк!.. Послушай-ка, эй земляк!
Фельдфебель поднял голову и прислушался.
Читатель, конечно, помнит, что мы оставили Фельдфебеля одного на лугу.
Бродя взад и вперед по лугу и с аппетитом пощипывая траву, он незаметно добрался до плетня, которым был огорожен луг, и тут вдруг услышал этот голос. Голос раздавался из-за плетня.
Вдоль плетня росли кусты ракитника. Фельдфебель поглядел внимательно в самую гущу кустов и ничего не увидал. Поэтому он решил заговорить сам.
Он сказал:
– Кто тут?
И так как он быль по природе своей, довольно общительным и разговорчивым конем, а ему показалось, что он сказал это не совсем вежливо, он сейчас же заржал потихоньку в примирительном и поощрительном тоне.
В кустах послышался легкий шорох. Вслед за тем между ветками ракитника фельдфебель увидел робко глядящую голову совершенно ему незнакомой лошади.
– Погуливаешь себе, – задумчиво сказала эта лошадь, поглядела в глаза Фельдфебелю и добавила со сдержанным вздохом:
– Эх ма...
Потом она оглянула луг и опять, словно завидуя чему-то, вздохнула:
– Эх... эх-хе-хе...
– Чего ты? – спросил Фельдфебель.
– Угодье-то у вас какое...
Лошадь подошла к плетню вплотную, вытянула худую жилистую шею и несколько раз мигнула темными с редкими ресницами веками. Затем она снова остановила глаза на Фельдфебеле.
– Землячек, а землячек...
– Ну? – сказал Фельдфебель.
Лошадь опять мигнула веками. Ей будто совестно было глядеть в глаза Фельдфебелю.
– Ну? – повторил Фельдфебель.
– Подь-ка сюда.
Глаза лошади, большие, темные, немного влажные, теперь остановились на Фельдфебеле с выражением какой-то затаенной тоски. Фельдфебель подошел.
– Ты тутошний? – спросила лошадь.
– Тутошний.
Фельдфебель назвал себя.
– Так, так, – сказала лошадь и закивала головой. – Слыхал я про тебя. Барина возишь?
– Барина. А ты чей?
– Мы-то? Мы крестьянские.
– Пахарь, значит!
– Пахарь.
– Тяжело, небось?
– Тяжело... Соху то день потаскаешь с утра до вечера, – ноги-то вот как гудят, гудят...
– Ну, у нас касательно этого ничего, – заметил Фельдфебель.
– У вас-то ничего, – отозвался конь-пахарь, поглядел на луг, на траву и, помолчав минуту, добавил тихо.
– Трава-то богатеющая какая.
– Нда... – протянул Фельдфебель и фыркнул. Он внимательно глядел в глаза собеседнику. Он, кажется, начинал понимать, к чему клонит разговор крестьянская лошадь...
– Кабы, – заговорил конь-пахарь, – да мне такая пища...
Он умолк и проглотил слюну. Точно спазмы сдавили ему горло... А глаза его неподвижно остановились на небольшой лощине посередине луга. Трава в лощине стояла, как щетка, зеленая, густая сочная.
– Слушай, – продолжал он глуховатым голосом, – я третий день, кроме прошлогодней соломы, ничего не ел...
Он говорил отрывисто, и последние слова точно застревали в гортани...
– Пусти меня к себе, – закончил он.
От волнения или почему другому он тяжело дышал; его худые бока с ясно обозначавшимися под кожей ребрами то отдувались, то вытягивались внутрь, как у запаленного.
И он жадными глазами все смотрел на лощину посреди луга.
– Пусти меня, – повторил он.
– Да ведь тут вот плетень, – промолвил Фельдфебель...
Он подумал немного и потом, оглянув плетень, добавил:
– Разломать разве?
И в нем, действительно, в ту минуту было такое желание – разломать плетень. Необыкновенно жалок казался ему этот конь-труженик, конь-пахарь.
Он толкнул плетень ногою, пробуя насколько он крепок, и спросил опять:
– Разломать?..
Он с какой-то невольной грустью смотрел на коня-пахаря, и голос у него был какой-то суровый и строгий.
– Нет, нет, – заговорил поспешно конь-пахарь, – что ты!.. Как можно хозяйское добро портить!.. А ты лучше открой ворота... так-то оно ничего будет.
– Ворота?
– Ну да... А что? Я бы сам открыл, кабы они открывались к вам на луг.
– Хорошо, – сказал Фельдфебель, – пойдем.
– Пойдем.
И они пошли по направлению к воротам, вдоль плетня, один со стороны луга, другой с наружной стороны. Ворота, на счастье, оказались не на запоре, а только приперты. Фельдфебель толкнул их головой, и они сейчас со скрипом распахнулись настежь.
– Иди, – сказал он коню-пахарю.
Тот вошел и сейчас же принялся щипать траву около плетня. А Фельдфебель стоял около него, положив ему голову на спину. Он ясно ощущал под подбородком его сухой, костлявый хребет. Он ничего не говорил коню-пахарю, но невыразимая жалость сжимала его сердце... И ему хотелось приласкать коня-пахаря и самому приласкаться к нему... И он стоял так с ним рядом и слушал, как хрупает конь-пахарь, кусая траву.
– Ешь, ешь, – думал он и терся щекой о его спину.
Конь-пахарь перешел на другое место, и Фельдфебель перешел за ним. И они долго бродили так по лугу, переходя с места на место. Потом конь-пахарь прилег отдохнуть, а Фельдфебель остановился около него. Он не глядел на коня-пахаря. Он смотрел вдаль прямо перед собою. Но мысли его были заняты только его новым товарищем.
Бедный конь-пахарь! Двух лет он уже таскал борону, потом его запрягли в соху, и с тех пор он всю жизнь ходил в сохе... Питался впроголодь, недосыпал, дрожал от холода в зимние морозы... Бедный, бедный конь-пахарь.
– Послушайте, – услышал вдруг Фельдфебель недалеко от себя тоненький голосок.
Он обернулся и увидел у своих ног маленькую серенькую птичку, прыгавшую в траве.
– Тебе еще что тут надо? – довольно раздражительно откликнулся Фельдфебель.
Его раздражило то, что маленькая птичка нарушила течение его мыслей.
– Я жаворонок, – сказала птичка.
Фельдфебель бросил на нее недовольный взгляд и спросил строго:
– Ну?
– Я сейчас спою вам одну песенку...
Птичка вопросительно остановила на нем маленькие глазки.
– Можно?
Фельдфебель молчал и, ничего не отвечая, угрюмо глядел на птичку. Он думал:
– Зачем она станет беспокоить беднягу, пусть бы он полежал себе спокойно, отдохнул.
Но птичка, должно быть, поняла его мысли. Она отпорхнула в сторону, села там на небольшую кочку и сказала:
– У, какой вы злюка... А мы ведь с ним большие друзья.
– С кем? – спросил Фельдфебель.
– А с ним!..
Птичка указала глазами на коня-пахаря.
– Я всегда пою ему песни, – добавила она и вдруг вспорхнула и, взвившись высоко кверху, запела чистым, звонким голоском эту трогательную «Песню пахаря»:
– Ну, тащися, сивка,
Пашней десятиной!
Выбелим железо
О сырую землю.
Красавица зорька
В небе загорелась,
Из большого леса
Солнышко выходит.
Весело на пашне...
Ну! тащися, сивка!
Я сам друг с тобою
Слуга и хозяин.
Весело я лажу
Борону и соху,
Телегу готовлю,
Зерно насыпаю.
Весело гляжу я
На гумно, на скирды,
Молочу и вею...
Ну, тащися, сивка!
Пашенку мы рано
С сивкою распашем,
Зернышку сготовим
Колыбель святую.
Его вспоит, вскормит
Мать земля сырая,
Выйдет в поле травка...
Ну, тащися, сивка!
Выйдет в поле травка –
Вырастет и колос,
Станет спеть-рядиться
В золотые ткани.
Заблестит наш серп здесь,
Зазвенят здесь косы;
Сладок будет отдых На снопах тяжелых!
Ну, тащися, сивка!
Накормлю досыта,
Напою водою! –
Водой ключевою.
С тихою молитвой
Я вспашу, посею:
Уроди мне, Боже,
Хлеб – мое богатство!
Долго и хорошо пел Жаворонок. Звенящими трелями неслась его песня в воздухе... Какая-то тихая грусть, но вместе с тем и надежда слышались в ней. Даже Фельдфебель, который имел хоть и доброе сердце, но, в качестве отставного военного коня не любил особенных нежностей, невольно заслушался. И на него подействовало обаяние этой глубоко прочувствованной песни...
Но откуда мог жаворонок узнать это стихотворение русского поэта?
Чтобы не вводить читателя в заблуждение, мы должны сказать здесь, что стихотворение это жаворонок перенял от одного мальчика. Он подслушал, как мальчик заучивал его наизусть, готовя заданный ему урок. Жаворонку очень понравилось стихотворение и, будучи от природы большим музыкантом, он не мог удержаться от того, чтобы не положить эти прекрасные слова на музыку... И теперь это была одна из самых любимых его песен, которую он всегда пел с особенным чувством и особенным искусством.
Фельдфебель слушал, но, хоть ему и было приятно слушать, однако все та же необъяснимая тоска была в его сердце.
Бедный, бедный конь-пахарь. Всю свою жизнь он жил для других, друг и кормилец своего хозяина... Вечно в поле, вечно в работе. Только один скромный, серенький жаворонок пел ему свои песни...
Теперь Фельдфебель узнал и понял, для кого ранним утром, в полдень и вечером жаворонок поет свои песни... Вечером конь-пахарь кончает работу, и вечером же умолкает жаворонок... И сегодня уж до вечера жаворонок не улетал с луга...
Солнце, между тем, опускалось все ниже и ниже. Когда наступил вечер, на луг пришел конюх Потап, которому не было ровно никакого дела до песни жаворонка. Он самым невежливым образом прогнал коня-пахаря с луга, а Фельдфебеля отвел в конюшню. В конюшне Фельдфебель уже застал Фис-де-л’Эра...
Сначала он поглядел на него мрачно и заметил довольно недружелюбно:
– Форсит, форсит, а чего?..
И затем обратился прямо к Фис-де-л’Эру:
– Ну, скажи ты мне на милость, что ты собственно есть?
Фис-де-л’Эр промолчал. Он был очень благовоспитанным конем и потому был сильно обижен тем, что Фельдфебель, без всякого со стороны его – Фис-де-л’Эра повода, обошелся с ним так грубо. Поэтому, на неучтивую выходку он решил ответить молчанием.
Фельдфебель тоже спохватился и замолчал. В конюшне воцарилось очень натянутое настроение. Все чувствовали себя неловко...
И неизвестно, как бы наши новые сожители вышли из своего неприятного положения, но, на счастье, как раз в это время в конюшню вошел Потап, задал лошадям корму и, посмотрев, все ли обстоит в должном порядке, снова ушел.
Лошади принялись за овес.
За едой Рыжий, которому было очень неприятно вызывающее поведение Фельдфебеля, тихонько разъяснил ему, что новая лошадь, хоть и кажется по наружному виду гордой, на самом деле очень вежливая, хорошая лошадь, к тому же и разговорчивая.
– Я, братец мой, – шептал Рыжий, – сам думал, что с ним каши не сваришь, а он парень добрый, душевный можно сказать, парень, хотя и немец.
Мало-помалу тяжелое впечатление, вынесенное Фельдфебелем из встречи с конем-пахарем, рассеялось, и он сам первый обратился к Фис-де-л’Эру.
Он сказал:
– Послушайте, господин конь... Давеча я того... неприятность такая вышла... ну и зло меня взяло... Ну, да вообще простите, что обидел... А мы лучше по-хорошему. Видно, что вы конь образованный... Так уж не взыщите, а расскажите нам лучше, кто вы, да откуда...
Фис-де-л’Эр, со свойственным ему тактом, сейчас же сказал, что он нисколько не сердится, что ему, напротив, очень приятно познакомиться и что, если угодно, он, конечно, с большим удовольствием сообщит о чем его просят.
IV. Рассказ скакуна
– Итак, господа, вы желаете, чтобы я рассказал вам что-нибудь о себе... Извольте.
Тут Фис-де-л’Эр проглотил некоторую порцию овса, отфыркался и начал:
– Хоть я и считаю своей родиной Россию, но, как уже, кажется, говорил сэру Рыжему...
– Послушайте, господин, – вдруг совершенно неожиданно перебил рассказчика Рыжий...
– Что угодно, сэр? – вежливо спросил Фис-де-л’Эр.
– Во-во... это оно самое и есть... Никак я тут понять не могу: все сер, да сер... т. е., это вы так меня называете... Какой же я серый... Рыжий ведь я... Вот он – Фельдфебель ну тот, действительно, серый, а я, прямо станем говорить, рыжий.
– Позвольте... я, кажется, и не думал утверждать, что вы серой масти, – с удивлением сказал Фис-де-л’Эр.
– Да неужели я ослышался... Может и ослышался, а только, кажись, нет... Вы вот все, господин, говорите мне: сер да сер...
Тут Фис-де-л’Эр понял, в чем дело, и чуть было не расхохотался, но хорошее воспитание и врожденная деликатность удержали его от смеха... Он не хотел обидеть этим смехом своего нового простоватого компаньона...
– Сударь, – сказал он, сдерживая невольную улыбку, – я говорю: «сэр»... Это по-английски значит: «господин»...
Рыжий даже уши от удивления опустил. Он сконфузился за свое невежество, хотел что-то такое сказать, но мог только произнести:
– Ишь ты.
– Ха-ха-ха! – разразился неожиданным смехом Фельдфебель, – вот это так штука... Эх Рыжий, Рыжий, прямая ты, братец мой, деревня и никакой в тебе образованности нет. И чего выдумал!.. Ведь по ихнему, по-английски, «сэр» выходить «господин» по-нашему. Все одно, как, примерно, француз... Он тебе не скажет по нашему, а по-свойски «мусью», а вот немец, тот опять же скажет не господин, а «герр»!.. Был я в Польше, так там говорят «пан». А то, бывал я в такой сторонке, есть народ болгары, так те говорят «братушка»... Разные слова, а выходит все одно... «господин»...
Рыжий, устыженный этим разъяснением, виновато опустил голову, конфузливо ухмыльнулся, ткнул головой в сено и сказал:
– Ну, стало быть, прошу прощения за беспокойство.
– То-то и оно-то, братец, – наставительно заметил Фельдфебель.
После этого Фис-де-л’Эр стал продолжать:
– Итак, хоть я и считаю своей родиной Россию, но родители мои были англичане. Отца моего звали Норд-Вестом, а мать Леди-Грин... Род наш старинный... родословные книги говорят, что предок наш, которого звали Эклипс, умерший еще в 1789 году двадцати пяти лет от роду, неоднократно бывал победителем в скачке. От этого Эклипса и пошел наш род. Что касается меня лично, то я родился в России, но воспитание получил английское. Теперь мне от роду девять лет. Я уже три года, как не скачу, но раньше много раз принимал участие в скачках.
– Извините, господин, – снова перебил Фис-де-л’Эра Рыжий, – вот вы все изволите говорить о каких-то скачках. Никак я не пойму – что это за скачки такие?
– Эх ты, простофиля, – досадливо откликнулся из своего стойла Фельдфебель, – ну как так не знать, что такое скачки... Скачки – они скачки и есть... Бывают еще рысистые бега, так они рысистые бега и есть, потому там бегают рысью, а скачки – это скачки, потому, значит, там не бегают, а скачут.
Но Рыжий и из этого остроумного объяснения понял очень мало. Только дальнейшая любезность обходительного Фис-де-л’Эра помогла ему хоть сколько-нибудь разобраться в этом мудреном для его деревенского мозга понятии.
Скаковой конь сказал:
– По-видимому, будучи постоянным сельским жителем, вы не совсем знаете обычаи столиц и больших городов (разумеется, Фис-де-л’Эр сказал это по врожденной ему вежливости, так как, конечно, Рыжий не только «не совсем», но вовсе не знал о каких-либо обычаях больших городов ибо даже и в своем уездном городе был, при том совершенно случайно, только один единственный раз в течение всей своей трудовой жизни)... – Я постараюсь, насколько это окажется в моих силах, объяснить вам, что такое представляют из себя скачки. Но будет лучше всего, если я просто расскажу вам о своей первой скачке. Да, это был такой день, который никогда не изгладится из моей памяти.
Фис-де-л’Эр немного помолчал. Рыжий, вообще отличавшийся чисто детским любопытством, весь насторожился, приготовляясь слушать, – ему всегда хотелось возможно больше знать о том как живут на белом свете добрые лошади. Насторожился и Фельдфебель. В качестве отставной военной лошади он знал-таки кое-что интересное, но вместе с тем понимал, что новый его знакомец более образован и сведущ в разных вещах... Итак, он тоже насторожился, хотя и старался показать, что он видел всякие виды и не так уж слишком любопытен.
– Мне было тогда только три года, – начал скакун. – Нас в скачке участвовало всего пять лошадей. Я хорошо запомнил имена своих первых соперников: их звали Эол, Мирабо, Теста-Бианка и Роксана. Скакать нам надо было полторы версты. На мне сидел англичанин Клейдон, знаменитый, очень опытный жокей...
– Это что же... жокей этот самый, – спросил Рыжий – в роде как кучер?
– О, не совсем так, – ответил скакун, – но, если хотите, так я, пожалуй, согласен. Строго говоря, он не кучер, но тоже управляет лошадью, сидя на ней верхом. Он же и объезжает скаковых лошадей...
– Ага, это как и у нас в военной службе берейтор, – ввернул свое слово Фельдфебель, – тот тоже объезжает лошадей.
– Вот именно, – поспешно согласился Фис-де-л’Эр. – Мой жокей весил, вместе с седлом, три пуда пятнадцать фунтов.
– Сколько? – изумился Фельдфебель,
– Три пуда пятнадцать фунтов – повторил Фис-де-л’Эр.
– О-го!.. Ну, так это не совсем, как наш берейтор Ильяшенко. В нем было добрых пять с половиной, а то и все шесть пудов, – сказал Фельдфебель и даже слегка вздохнул, вспомнив о такой тяжести своего объездчика.
– О, – с некоторой снисходительностью отозвался скакун, – у нас на скачках такого тяжелого веса не полагается. Чем легче жокей, тем дороже он ценится. Есть такие, что не весят и трех пудов.
– Ну-у? – усомнился Рыжий.
– Честное слово благородного коня, – сказал Фис-де-л’Эр.
– Иностранный человек, он человек легкий, хитрый, что и говорить, человек, – подтвердил Фельдфебель.
Он, если признаться откровенно, и сам не был вполне уверен в том, что могут быть такие легковесные люди, но решил не спорить, так как не хотел остаться в дураках и показать свое незнание на тот случай, если такие люди существуют на самом деле, ибо мало ли чего не бывает... всякие чудеса.
– Итак, нас было пять соперников, – снова перешел к делу Фис-де-л’Эр. – Нас выстроили в ряд, и по данному знаку мы все бросились вперед. Впереди всех, с быстротою ветра, понесся Эол. Три других лошади неслись за ним. Я же чувствовал, что могу скакать еще быстрее, но мой наездник, сильно натянув поводья, всеми силами старался удержать меня назади. Скажу по чистой совести, тогда это ужасно сердило и обижало меня. Я все порывался вперед, а он продолжал сдерживать. Я приходил в совершенное негодование. О, я был очень молод, я тогда не понимал, что скаковая лошадь должна сохранить весь запас своих сил для того, чтобы лучше скакать в последние моменты скачки. Потом я и сам это прекрасно понял, но только не тогда. И что же вы думаете, господа!.. Представьте себе, что именно тот самый Эол, который так отчаянно скакал впереди всех нас, утомился раньше всех, и в скором времени не только три первые лошади, но и я оказались впереди. Мы уже проскакали более половины назначенного нам расстояния. Эол скакал уже далеко сзади, но мистер Клейдон все еще удерживал мой порыв. Так мы вышли на прямую линию, а вдали уже виднелся столб, где кончалась наша скачка. Впереди теперь была Роксана. – «Нет, – подумал я, – если жокей будет так сдерживать меня, я никогда не выиграю скачки». Я прямо выходил из себя, но как раз в это время почувствовал, что мой наездник ослабил поводья. Что же это?.. Я как-то мгновенно почувствовал, что все мои силы отлично сохранились. Спасибо наезднику. Я ринулся вперед с головокружительной быстротой, очертя голову. Какие-нибудь несколько секунд – я уже обскакал Мирабо и Теста-Бианку и поравнялся с Роксаной. Я понял, что она не уступит мне даром, я видел, как ее жокей, мистер Сильверт, уже поднял хлыст. Еще какие-нибудь пять секунд и уже столб. Неужели же она победит. Я чувствовал, что начинаю слабеть. И вдруг произошло нечто неожиданное: мой жокей как-то разом пригнулся к моей шее, выпустил поводья, как-то прямо подтолкнул меня вперед и в самый последний момент, у самого столба, я выдвинулся на целую шею... Да, господа, ровнехонько на целую шею!..
– Здорово! – гаркнул Фельдфебель, взволнованный этим рассказом.
– Вот это так! Лихо! – радостно закричал Рыжий.
Они были несказанно довольны, что их новый товарищ «утер нос другим».
А Фис-де-л’Эр, взволнованный воспоминаниями, тяжело вздохнул и сказал:
– Да, это была моя первая победа. Много раз после того приходилось мне скакать. Бывало, что проигрывал, бывало, что и выигрывал, но уже никогда я не испытывал такого волнения, как в тот незабвенный день.
После этого рассказа на некоторое время в конюшне воцарилось молчание... Начинало темнеть.
– Так, – сказал вдруг Рыжий, видимо, что-то соображая, – а все таки господин почтенный, одно мне непонятно...
– Что же именно? – с недоумением спросил Фис-де-л’Эр.
– Для чего эти самые скачки?
Вопрос был сделан так неожиданно, что скакун, хоть и был очень образованный конь, растерялся и не знал, что ответить.
– Скачки, скачки, – начал было он, но тут его выручил Фельдфебель.
– И дурак же ты, брат Рыжий. Для чего скачки? А тебе какое дело, для чего. Твое дело не рассуждать, а исполнять, что приказано. Вот тебе сказано воду возить – и вози, мне приказывали пушки таскать – таскал. А ежели сказано скакать, ну и скачи. Сказано, так значит, так оно и нужно. Люди, брат, умнее нас с тобою знают, что делают. Вот тебе и весь сказ.
Все это было настолько верно и настолько назидательно произнесено, что Рыжему ничего не осталось, как только устыдиться своего неуместного, как ему теперь казалось, вопроса и замолчать.
V. Враг нечистой силы
Тем временем в конюшне становилось все темнее и темнее; постепенно надвигались вечерние сумерки.
Лошади уже начали испытывать желание спать, особенно Фис-де-л’Эр, которого несколько утомил долгий путь в вагоне, а затем и переход от станции железной дороги до имения помещика, так как пришлось сделать значительное путешествие по неудобной деревенской дороге, что для привыкшего к мягкому скаковому кругу скакуна было делом не легким.
И, быть может, он бы заснул раньше всех, но тут случилось небольшое событие, которое не только на некоторое время отодвинуло час отдыха, но и совсем отогнало у благородного коня всякую дальнейшую охоту к сну. Следствием этого события явились также и некоторые дальнейшие разговоры.
А произошло вот что:
– Ну, иди, иди каналья, довольно, будет с тебя таскаться!
Такая фраза раздалась у входа в конюшню, и голос сказавший ее принадлежал не кому иному, как уже неоднократно упоминавшемуся в этом правдивом повествовании конюху Потапу.
У входа в конюшню происходило что-то вроде борьбы. Кто-то кого-то собирался впихнуть в открытые двери и кто-то сильно сопротивлялся, отнюдь не желая входить.
– Иди же, сказано тебе – довольно таскаться, животная несуразная, – повторил Потап с некоторым раздражением.
И тут он впихнул кого-то в конюшню и быстро захлопнул двери. В конюшне оказалось оригинальное существо, которое во всяком случае не могло назваться представителем конской породы.
И странное дело: в то время как Фельдфебель и Рыжий отнеслись к этому существу совершенно равнодушно, как к самой обыкновенной, давно уже известной вещи, благородный, изящный и образованный Фис-де-л’Эр был настолько поражен, можно даже сказать потрясен, что испуганно шарахнулся в сторону.
Ничего подобного ему никогда еще не приходилось видеть. Сначала он было даже подумал, не обманывает ли его зрение, не во сне ли он все это видит, но сейчас же понял, что в конюшню вошло действительно живое существо. Оно показалось блестящему скакуну чем-то не только на первый взгляд страшным, но даже отвратительным.
– Уж не выходец ли это с того света? – подумал Фис-де-л’Эр, содрогаясь всем телом.
В самом деле: представьте себе нечто величиною с довольно крупную собаку с белой лохматой шерстью, но только у этого зверя были два большие рога, длинная борода и какой-то пучок растрепанной шерсти, напоминающий собою некоторое подобие хвоста, которое, однако, никоим образом не могло быть названо настоящим хвостом, одним из тех хвостов, каковые вообще бывают у четвероногих.
Таинственный зверь отошел от дверей конюшни (предварительно, впрочем, хоть и без успеха, попробовав открыть их, для чего несколько раз стукнул в них лбом) и заговорил на каком-то особенном, совершенно непонятном и никогда еще неслыханном для Фис-де-л’Эра языке.
– М-э-э-э! – произнес он тоненьким и довольно резким голосом.
Судя по сердитой и непривлекательной внешности, можно было ждать, что вошедший заговорит по меньшей мере баритоном, если не настоящим басом, и тем непонятнее был его тоненький альт, если не весь дискант.
Потом он постоял немного и снова протянул:
– М-э-э-ке-ке-э!..
– Боже мой, что за это за чучело, – не без испуга пробормотал про себя Фис-де-л’Эр, боязливо косясь на ужасного незнакомца. – Скажите, пожалуйста, что это за отвратительное чудовище? – шепотом обратился он к Рыжему.
– Где такое? – недоумевающе отозвался Рыжий.
– А там.
И Фис-де-л’Эр движением глаз указал, куда следует.
– Это... да это наш козел Васька, – сказал Рыжий и сказал это таким тоном, каким говорят о самых обыкновенных, равно всем известных вещах.
– Кто-о? – переспросил скакун с полным недоумением.
– Да козел, Васька, – спокойно повторил Рыжий.
– Для чего же он здесь... что ему тут надо?
– А живет себе.
– Где?
– Да тут, в конюшне.
И видя, что скаковой конь все еще продолжает удивляться, Рыжий, почувствовав на этот раз уже свое превосходство, сказал:
– Ага, вот и вы, господин, оказывается, не все знаете, а ведь это козел Васька.
Действительно, как было не удивиться Рыжему, простому деревенскому коню. Такое обыкновенное животное, как козел, и вдруг образованный «немецкий» конь ровно ничего о нем не знает, словно дитя малое...
Фис-де-л’Эр говорил еле слышным голосом, но Рыжий настолько громко, что слова его свободно долетали до слуха Фельдфебеля. Тот понял в чем дело.
– Васьки нечего бояться, – отозвался Фельдфебель, – он добрый козел, хоть и пустой парень. Да если хотите я сейчас его пошлю к вам, он у нас ласковый.
– Васька, а Васька! – кликнул он приветливо.
– М-э-э-э! – отвечал козел.
– Поди-ка вот к ним, дай полюбоваться на твою образину, уродина.
– Ты, Фельдфебель... не того... не ругайся, а то ведь и я выругаюсь, – обиженно ответил Васька на чистом лошадином языке. Он успел ему хорошо выучиться.
– Уродина ты был, уродина и есть, – снова сказал Фельдфебель.
– Уродина? Сам ты уродина, когда так, – сердито ответил козел.
Его раздражало пренебрежительное отношение к нему Фельдфебеля в присутствии нового, совершенно незнакомого лица.
– Ну, не сердись, – примирительно сказал Фельдфебель, – ты вот лучше пойди и познакомься с ними...
– И без тебя знаю обращение.
С этими словами Васька немедленно направился к стойлу скакуна.
– Давайте знакомиться, – сказал он.
– Очень приятно, искренно рад знакомству, – с присущей ему деликатностью отвечал Фис-де-л’Эр, хотя голос его все-таки немного продолжал дрожать, ибо от невольного испуга он еще не совсем успел отделаться.
– У нас тут хорошо, – продолжал Васька, – живем тихо, мирно, благородно.
– Хорошо тебе бездельнику, – отозвался из своего стойла Рыжий, – цельный день шляется где угодно, ровно ничего не делаешь, только и заботы, что на ночь в конюшню загонят.
Козел проблеял что-то насмешливое. Но Фис-де-л’Эр уже окончательно пришел в себя. Его боязнь прошла, так как он увидел, что его товарищи по конюшне нисколько не боятся таинственного зверя, называемого ими козлом, и обращаются с ним не только без малейшей боязни, но даже несколько покровительственно, свысока.
– Милостивый государь, – обратился он к Ваське, – не будете ли вы любезны объяснить мне, для чего существуют козлы.
– Козлы? – переспросил Васька.
– Да... не будете ли любезны объяснить, какая цель существования господ козлов.
Васька принял довольно гордую позу.
– А домового отгонять, – сказал он с достоинством.
– Домового? – с полным недоумением спросил скакун.
– Относительно домового – это он верно говорит, – сказал и рыжий. – Ихний брат завсегда нужен от домового.
– Но кто же этот домовой? – спросил Фис-де-л’Эр, вопросительно глядя то на Рыжего, то на козла.
Рыжий слегка оглянулся и сказал пониженным тоном:
– Хозяин.
– То есть, насколько я понял, – проговорил скаковой конь, – вы изволите намекать на владельца этого имения.
– Ш-ш-ш... что вы, господин, какой там владелец. Барин – и вдруг домовой... никак это невозможно. Нет, домовой – это особая статья. Он по ночам приходит и ездит на лошадях, – таинственным шепотом пояснил Рыжий.
– Но кто же он такой?
Фис-де-л’Эр решительно никоим образом не мог постичь, в чем дело.
– А кто ж его толком знает, – сказал Рыжий, – а только говорят, что по ночам он приходит в конюшню... страшный такой, лохматый. Придет и сейчас это на лошадь... и ну ездить на ней до тех пор, пока мыло с нее не пойдет.
В разговор снова вмешался Фельдфебель.
– Это верно, говорят, что приходит. Да только, может быть, это так... одни бабьи россказни. Может он и есть, а может его и нет. А только, чтобы видеть его живьем, так видеть его еще никто не видел.
– Ну, уж это ты, брат, того... как так не быть домовому, – сказал Васька.
– А ты сам-то видел? – язвительно спросил Фельдфебель у козла.
– Я-то не видел... это верно... не видел, – признался тот.
– Так, если сам не видел, что же зря болтать, – сказал Фельдфебель.
– Да я и видеть его никак не могу – ответил козел.
– Почему же вы, сэр Васька, не можете его видеть? – поинтересовался Фис-де-л’Эр.
– А потому, что он боится козлов, – не без гордости ответил Васька. – Как знает, что есть козел – никогда не покажется.
– Чего же он боится? – спросил Фис-де-л’Эр, совершенно забывая, что несколько времени тому назад он сам испугался, когда увидел вошедшего в конюшню козла.
– Ну, уж этого я не знаю. Доподлинно объяснить не могу, а только Потап так говорит и даже нарочно просил барина, чтобы он позволил меня взять сюда.
– А то вот еще, – вмешался Рыжий, – говорят, что от домового хорошо и сороку в конюшне повесить.
– Это еще как? – вновь изумился Фис-де-л’Эр.
– А так, застрелят это сороку, ну, потом и повесят где-нибудь над стойлом. Домовой-то, говорят, мертвой сороки не любит. Да только все-таки козел будет повернее. Однако и сорока...
– Тоже наговорил, – не без презрения перебил его Васька, – где твоей сороке против козла устоять. И ничего твоя сорока не поможет. Ну, скажи на милость, чего домовому мертвой птицы бояться?.. А козел, это дело другое.
– Ну уж этого я не могу тебе сказать, а что слышал, то и говорю.
Васька только пренебрежительно затряс бородой, словно желая сказать:
– И охота тебе, приятель, такую чепуху пороть.
На этом разговор о домовом прекратился. Фис-де-л’Эр россказням верил плохо, так как никогда ранее этого дня ему не приходилось слышать о домовых. Не совсем уверенно относился к этому вопросу и Фельдфебель.
Только Рыжий помолчал немного, потом вздохнул и сказал с полным убеждением:
– Как никак, а он-таки есть.
– Как не быть! – подтвердил козел Васька и пошел в свое стойло, находящееся в другом конце конюшни.
Несколько времени прошло в полном молчании. Лошади лениво дожевывали последний остаток овса. Козел Васька копошился в своем помещении и тоже уничтожал какую-то снедь...
– Однако, и спать пора, пожалуй, – произнес Фельдфебель.
– Э-э-х, – отозвался Рыжий, – так-то она вся жизнь идет. Работай, работай, только тебе и радости, что отдохнуть в праздник, да поспать.
– Господа, прошу извинения, – обратился к товарищам скаковой конь, – я вот рассказал вам кое-что из своего прошлого, но мне тоже было бы интересно узнать кое-что и о вас. Не будете ли вы добры, в свою очередь, поведать мне что-нибудь о себе.
– Да что говорить-то, – понуро зевая промолвил Рыжий. – Вот разве ты, Фельдфебель, конь бывалый, служилый расскажи что-нибудь.
– Да, да, непременно расскажите, – просил Фис-де-л’Эр.
Ему хотелось непременно завести добрые отношения, так как, несмотря на некоторую национальную гордость, присущую англичанам вообще, он был очень обходительная лошадь. К тому же спать ему раньше, действительно, хотелось, но неожиданное появление в конюшне козла подействовало на его нервы, и теперь, хоть чувство страха его окончательно покинуло, он уже не имеет желания уснуть.
Фельдфебель тоже, хоть ему и хотелось спать, желал быть вежливым. «Обхождение» он понимал, понимал и то, что нельзя же ударить в грязь лицом перед новой лошадью.
– Ну, ладно, – проговорил он, – не так уже, чтобы слишком занятно было мое житье, а все-таки и у меня порассказать кое-что найдется. Жизнь прожить, – не поле перейти. И с нами кое-что бывало.
Фис-де-л’Эр приготовился слушать. Рыжий, хоть и давно уже знал всю подноготную из жизни своего старого товарища, с которым провел в одной конюшне немало лет жизни, не прочь был и еще разок лишний послушать.
VI. Из жизни Фельдфебеля
– Ну, так слушайте, – начал Фельдфебель.
Было это... Вот уж и забыл в полной точности, когда было. А только давно было.
Был тогда я совсем жеребенок, стригунок. Ну, сами знаете, ни работы тебе, ни заботы... Да... Целый день на выгоне
А был у нас выгон как раз около речки. Осока росла по берегу, камыши, лозняк, – низкий был берег... Ну и, значит, как жарко, сейчас, это, влезешь в воду и стоишь... Только от оводов да от мух, либо от комаров отмахиваешься.
А солнце, это, печет, печет – страсть... Возьмешь и войдешь поглубже. Другие какие жеребята, бывало, близко подойти боятся, а я ничего. Смелый был. Бывало, и ляжешь, где мелко.
Хорошо. И ходил у нас в табуне, между прочим, один конь. Старый уж конь был. То есть, не то что бы уж очень старый, а все-таки почтенный.
Скажешь бывало:
– Дедушка, а дедушка...
А он тебя сейчас за это хвать зубом. Конечно, не больно. Тоже понимал. Больше как бы шуткой.
– У, – говорит, – пострел.
Только и всего.
Ну и, значит, заспорили мы, это, раз с жеребятами нашими. Сами знаете, народ шустрый, вострый... Да, заспорили. Я первый начал.
Говорю:
– А вот, ребята, ни за что не переплыть вам на тот берег, а я переплыву.
Сам говорю, а сам думаю:
– Ой, переплыву ли?
Однако, от своего слова не отступаюсь. Стал на своем.
– Переплыву.
– Не переплывешь! – говорят.
– Переплыву, – говорю.
– А ну! – говорят.
– Эх, думаю, была, не была!
Подошел к берегу, вошел в воду. Дошел, это, по сю пору, остановился. Жуть взяла. То есть, такая жуть... Лучше бы, думаю, сквозь землю провалиться. Гляжу на воду, а сам дрожу, дрожу...
А жеребята собрались на берегу кучкой, смеются, гогочут:
– Гы-гы-гы!.. Гы-гы-гы!
– О, чтоб вас, думаю...
Ступил еще шаг вперед, и уж вижу – вода по грудь... Да. Опять остановился. Пробую копытом дно. Дно топкое, ноги так и тонут.
Думаю, если так стоять, еще совсем затонешь (конечно, молод был). Испугался. То есть, скажу вам, мое почтение, как испугался... И потому именно испугался: думаю, завязнешь в тине, совсем оттуда не вылезешь.
Ну и, конечно, мне бы скорей назад, на берег, а я как это, значит, шарахну прямо грудью, да прямо вперед... Затмение нашло.
Не помню даже как, что, почему; только вижу, уж плыву я посреди речки... И теперь вспомнить жутко... Река это быстрая, так и несет, так и несет, да все куда-то в сторону.
Хочу, хочу стать на ноги, попробую дно, – какое тебе дно! Прямо вар, пучина!.. Кипит, бурлит, прямо – страсть! Ну, думаю, теперь конец мой пришел. Как закричу, как закричу...
Вижу бежит пастух, баба бежит, еще кто-то... Баба-то не далеко белье полоскала. Подбежали к берегу.
– Жеребеночек, – кричат, – тонет, жеребеночек тонет.
Гляжу, мужик сел, лапти развязывает, а сам с меня глаз не спускает... Вдруг откуда ни возьмись... Вы помните, я вам про коня рассказывал, про старика... Смотрю он сам... Скачет, Господи Боже ты мой, откуда прыть взялась... То есть, так махает, что и молодого не хватит.
Я это:
– Дедушка, дедушка!
Смотрю, бух в воду. Поплыл. Прямо ко мне плывет. А мне уж мочи нет... Вода залилась в ноздри, в рот стала попадать. Однако, вижу, старик тут. Слава тебе Господи... Плывет. Подплыл, сейчас за загривок хвать зубами...
– Плыви! – кричит.
Ну, конечно, плыву и плыву. Не даст пропасть, думаю. Откуда смелость взялась. Заболтал ногами, а он меня за загривок держит. Поплыли мы.
А мужик уж и раздеваться бросил. Выпучил глаза, смотрит. Известно, – такое дело, хотя кому доведись. Ну, я понимаю, есть там собаки водолазы, а то конь... Где это видано, спрошу я вас, чтобы конь на такое дело пошел.
Да, вытаращил глаза, смотрит. И все смотрят: пастух, баба, лошади какие на лугу были жеребята...
И что же вы думаете, – вытащил-таки, он меня. Вытащил...
– Вот тебе и дед, – говорит.
И правду сказать, ведь старый, а поди-ка, какое дело сделал! Про него потом даже в газетах писали. Вот, дескать какие бывают лошади!
Ну, и уж потом я, конечно, баста! То есть, не то что близко, а и совсем даже около речки боялся ходить. Долгое время.
Да, такие-то дела. Вот вы теперь и потолкуйте. Говорят – война, война, а, ей Богу, это хуже всякой войны...
Фельдфебель умолк и потом продолжал, спустя минуту:
– А то был еще со мной такой случай. Было это как раз за год, как пошел я в солдаты. Жил я тогда у одного дьячка... Ничего, обходительный был человек дьячок-то.
Бывало все по шее треплет.
– Эх ты, – говорит, – Васька, Васька...
Это ведь теперь меня Потап прозвал Фельдфебелем, а какой я собственно Фельдфебель? Васькой меня прежде звали. Ну, так слушайте.
Была у меня конюшня, не хуже вот этой – хорошая конюшня, потому хоть и не богатый человек мой дьячок был, а хозяйственный. Любил, чтобы все в полном порядке было.
Ну, и не знаю, как это вышло, а только случился у нас пожар... Страсть, что такое было. Пламя это, дым... Загорелось с кладовой, потом, гляжу в окошко, – вижу уж сарай занялся, а около сарая, как раз и была конюшня...
Я это ржать, я это ногами в стенку, думаю, услышать – придут... Стучу, стучу, ржу – нет никого.
А пламя уж, вижу, все ближе, ближе, гарью запахло... Гляжу зачадела крыша. Искры сыплются...
Хлоп!.. одна искра прямо на сено – в углу лежало, целая охапка... Как заполыхает... Ну, думаю, пропал...
Смотрю – открыли дверь.
– Васька! Васька!
За дымом не видно, а слышу по голосу, что дьячок... Хорошо.
– Васька! Васька!
А сам, видно, войти боится.
Я, это, туда, сюда, оборвал повод, кинулся, было, к выходу и не могу... То есть, верите ли, как окаменел. Будто ноги у меня к полу приросли. Гляжу на пламя, а двинуться не могу... Только ржу.
И ведь чувствую, что уж спину мне жжет огнем, а стою. Знаю, что тут и смерть моя, а стою. Беда! А дьячок стоит в сенях...
– Васька, Васька...
Только и всего...
А пламя гудит, гудит... Искры летят, трещит солома.
Слышу, вдруг кричит дьячиха:
– Игнатий, Игнатий! Да ты, глупец этакий, надень ему уздечку, да голову чем ни есть обороти. Все равно так не пойдет.
Ну, дьячок сейчас – шасть в конюшню туда, сюда, где уздечка? Нашел, взнуздал меня, а на голову мешок какой-то накинул. Ничего не видать.
И вот же вам правду говорю, стоял я до той минуты, как ошалелый, а тут взял и пошел! Как будто ничего и не было, только дрожу весь...
Ну, вывел меня хозяин на двор, снял мешок с головы; оглядел я все как следует, оправился совсем.
– Спасибо, – говорю.
Только, конечно, они меня не поняли, потому что, разве, они понимают по нашему?
Фельдфебель умолк.
– Э-х-ма, – вздохнул Рыжий, – такая-то наша жизнь лошадиная... Спать, что ль, братцы? – добавил он.
Он задумался, помолчал немного и потом вздохнул.
– Нда – сказал он, – ох, Господи, жизнь наша.
– Ты чего? – обратился к нему Фельдфебель.
– А так...
Рыжий опять вздохнул.
– Так ничего не бывает, – заметил наставительно Фельдфебель и повернул свою голову к Фис-де-л’Эру.
– Чудной он у нас, – проговорил он хотел было продолжать, но в это время снова раздался вздох Рыжего.
Затем Рыжий сказал не совсем смелым голосом:
– Вы тут все толкуете... да... А как я вам расскажу, была со мной какая история...
Он опустил голову, поглядел себе под ноги и умолк на минуту.
Фельдфебель повернулся к нему и поглядел на него вопросительно.
– Ну? – произнес он. – Чего там еще?
В голосе его и глазах, когда он смотрел на Рыжего, было такое выражение, как будто он уже знал заранее, что Рыжий все равно ничего не расскажет интересного. А Рыжий, кажется, в ту минуту весь был поглощен своими мыслями или воспоминаниями прошлого, нахлынувшими на него.
Он не слышал слов Фельдфебеля и даже не взглянул на него. Он все стоял, опустив голову, и смотрел себе под ноги. Только уши у него чуть-чуть шевелились. Потом он фыркнул, поднял голову и посмотрел прямо в глаза Фельдфебелю.
– Рассказать, что ль? – произнес он, и глаза его, кажется, при этом спрашивали. «Рассказать, что ль?»
И было вместе с тем в глазах его что-то, точно он сомневается, уместен ли будет его рассказ в таком обществе.
Чуть-чуть, одним глазом он глянул в сторону англичанина и повторил:
– Рассказать, что ль?
Фельдфебель тоже покосился на англичанина. Рыжий опять вздохнул.
Казалось, то, что он собирался рассказать, было дорого ему и близко его сердцу, но он уже наперед решил, что англичанина вряд ли заинтересует его рассказ.
Фельдфебелю сразу вдруг стало как-то жаль Рыжего, и больно и обидно за него. Ведь он все-таки был ему ближе англичанина...
И он сказал:
– Что ж, расскажи, расскажи, старина, мы послушаем.
И, обратившись к Фис-де-л’Эру, добавил:
– Пущай его... Ведь он тоже... он тоже... Он не как-нибудь.
Англичанин наклонил голову:
– Уэс, уэс, – проговорил он поспешно.
– Чего? – недоумевающе спросил Фельдфебель.
Рыжий также остановил вопросительный взгляд на Фис-де-л’Эре.
Потом он шепнул Фельдфебелю:
– Это еще что значит?
– А уж этого, братец, я и сам не того... не знаю, – таким же шепотом и несколько смущенно ответил ему Фельдфебель.
Фис-де-л’Эр, видимо, понял в чем дело.
– Уэс, значит «да», – пояснил он и любезно обратился к Рыжему, – пожалуйста, расскажите.
– Ну, слушайте, – после короткого молчания начал Рыжий, – расскажу я вам про цыгана...
Он хотел было продолжать, но, заметив быстрое движение Фельдфебеля в сторону Фис-де-л’Эра, умолк. Ему показалось, что Фельдфебель хочет от себя тоже вставить слово.
– Цыгане, – таинственным голосом проговорил Фельдфебель – у нас все больше конокрады.
Этим пояснением он, конечно, хотел возбудить в англичанине должный интерес к повествованию приятеля.
И, увидав по оживившемуся вдруг лицу Фис-де-л’Эра, что он достиг цели, он повернулся опять к Рыжему и сказал:
– Ну, ну... Так про цыгана?
– Про него, разбойника.
– Уж подлинно, что разбойники, – заметил Фельдфебель, – видал я их.
– Видал, не штука; кто их не видал, а вот как я, – отозвался Рыжий и раздумчиво добавил: – чтоб ему пусто было.
– Кому?
– А кому, как не цыгану этому самому.
– Что ж он с тобой сделал? – спросил Фельдфебель и, толкнув ногой в стенку стойла с той стороны, где стоял Фис-де-л’Эр, шепнул: – слушайте, слушайте, – уж, наверное, что-нибудь такое, этакое фокусное.
И, взглянув на Рыжего, нетерпеливо произнес:
– Ну?
– Украл, вот что! – сказал Рыжий.
– Украл?!
– Украл...
И Рыжий вздохнул.
– Чисто! – воскликнул Фельдфебель. – Как же это ты?
– Чего?
– То есть, как это тебя угораздило?
– А так и угораздило. Вот слушайте.
VII. Нечто о цыгане
– Было тогда мне лет семь... Я ведь здесь давно живу. Фельдфебеля тогда еще тут и не было... Семь лет... Значит, самая пора. Сильный я был. Скажу так: сорок пудов – тяжело, а что касается меня, так я и по пятидесяти таскивал...
Бывало запрягут тебя в телегу, накладут гора-горой – вези. И везешь. И ничего, т. е., ни то что, ничуть ничего.
Ну и конечно, как жил я у барина, а барин был лошадник, хаживали к нему цыгане... Да...
Бывало придут, помню я их, все одни ходили. Один старый этакий, все равно, как в саже, лицо темное, волоса черные, только с проседью, борода черная, усы черные, одно слово – смоляной. Только глаза блестят... И так и бегают, так и бегают... Другой сын его был, а третий племянник.
Так тот, который племянник, – нужно ему было в солдаты идти, а он, не долго думавши, положил руку на порог, да топором по пальцу. Так и отхватил. Беспалых-то не берут в солдаты... Да, одно слово, отчаянный народ.
Ну, пришли они раз к барину.
Не знаю я, о чем они там говорили, а только, слышу, кричит барин Потапу:
– А ну-ка, Потап, покажи им Рыжего.
Вывели меня. Гляжу, мое почтение, все трое: отец, стало быть, сын, племянник.
Отец сейчас подошел, засунул пальцы мне в рот между зубами, открыл рот, глядит, сын под брюхо подлез, тоже бок щупает... Потом сын стал в зубы смотреть, а отец под брюхо... Потом отошли в сторону.
– Ну-ка, – говорят, – пусть пройдется.
Взял меня Потап, провел.
– А ну пусти, – говорят, – рысью.
И сейчас, этак, вытащили кнуты из-за поясов... жик-жик. Бить не бьют, а так только жикают... Да все под брюхом, все под брюхом.
Пробежался со мной Потап. После того, смотрю, сошлись все трое, слышу, залопотали по своему.
– Сорок рублей, – говорит цыган, который отец, – сорок рублей можно дать.
Поглядел на него барин, задвигал, задвигал бровями.
– Что? – говорит.
– Сорок рублей.
– Ах ты, такой-сякой, – говорит барин сердито, – уведи, Потап, его в конюшню, – меня то есть.
Тут сейчас опят старик подбежал ко мне, присел около меня на корточки.
– Это что? – говорит.
Оглянулся на барина.
– Поглядите, поглядите, – говорит.
Взял и сейчас пальцем этак в бок. Ничем я болен никогда не был, ни опоен, ни запален, ничего такого, а что же вы думаете: должно быт он знал куда тянуть. Больно мне стало. Даже в сторону шарахнулся. А цыган подскочил сейчас...
– Ну что?! – говорит.
А барин ему:
– А что?
– Не иначе, – говорит, – как с пороком.
Только барин наш, он сам на счет лошадей, т. е., вот как знает свое дело, не хуже любого коновала.
– Врешь, – говорит.
– Ну, как-с угодно вашей милости, а только извольте поглядеть.
И опять пальцем, да еще больней.
– Видите, – говорит.
– Потап, – говорит барин, – уведи.
Взял Потап меня за уздечку, повел.
– Погоди, погоди! – кричит цыган и сейчас опять к барину...
Подскочил. Подскочили тоже сын и племянник. Схватил старик полу поддевки в руку.
– Ну, – говорит, – идет что ль, сорок пять. Красная цена сорок, а уж я и то пятерку накинул.
И сейчас оставил поддевку, поглядел кверху перекрестился...
– Ей Богу, – говорит, – нельзя больше.
Руками замахал.
А барин все свое:
– Веди, Потап.
Ну, увели меня.
Только я долго слышал из конюшни, как они галдели. Потом, слышу по голосам, снова подходят к конюшне... Барин дверь сам отворил. Вошли.
Цыган сейчас в стойло, подлез мне под брюхо, щупал, щупал, зубы снова смотрел, снова в живот пальцем тыкал, за хвост тянул даже.
– Пятьдесят, – говорит, – больше нельзя.
Ну барин уж тут совсем осерчал.
– Пошел вон! – кричит.
Прямо так и крикнул:
– Вон!
Ушли они. Барин опять дверь сам запер. Вижу в сердцах барин: громко дверью стукнул.
Слышу за дверью его голос:
– Идите, идите, отсюда, – кричит, – чтобы и духу вашего тут не было.
Да не такой народ цыгане эти самые. Не так-то легко от них отделаться. Свяжешься с ними – сам не рад жизни будешь. А только, ежели кому приходится по лошадиной части, так никак тому без цыган невозможно. Лошадиный народ. Это верно.
Загалдели опять. Но барин уж говорить с ними больше не стал. Прямо со двора приказал гнать. Ушли, наконец. Тихо стало на дворе.
Ну, хорошо, только прошло после того дней шесть, может больше немного, не помню уж.
Раз ночью стою это я, вот как сейчас, задремал. Да, задремал и только слышу шуршит что-то за дверью... Что бы это, думаю, могло быть? Совсем проснулся.
Думаю, так показалось. Однако, прислушаюсь, прислушаюсь, нет-таки – шуршат.
Разбудил козла. Козел-то у нас тогда другой был, не этот... Умер уж он давно, а звали его, как и этого, Васькой, потому всех козлов называют Васьками. Такое уж, верно, положение для них существует.
– Васька, – говорку – а Васька...
– Чего? – говорит.
– Ты послушай.
– А что? – говорит.
– Лазит, – говорю, – что-то за дверью.
Прислушался опять: не домовой ли: такая мысль пришла.
– Не домовой ли? – говорю.
Подошел он к двери, приложил к двери ухо, слушал, слушал.
– Ну что? – спрашиваю, – слышишь?
– Слышу.
– Домовой?
Он сейчас отступил на шаг, нагнул голову, а рогами прямо вперед к двери.
– Пусть, – говорит, – только посмеет сунуться, уж я его угощу. Будет помнить. Другу и недругу закажет в чужой монастырь со своим уставом соваться.
– А разве, – говорю, – домовой?
Молчит. Только бородой потряс. А скребет за дверью, т. е., понимаете, так и скребет, все равно как кто лопатой навоз отгребает.
– Васька, а Васька, – опять говорю.
– Ну?
– Поколдовал бы ты, что ль...
Только сказал это, батюшки мои! Вижу дверь, отворяется, отворилась наполовину... Васька сейчас хлоп рогами. Да еще раз – хлоп... Думаю: домовой, значит.
– Васька, – шепчу, – колдуй, колдуй, козлиная твоя душа.
А сам весь дрожу. Одним словом, понимаете, чувствую – конец мой пришел. «Пропала моя головушка», думаю. Вижу, вдруг высунулся кто-то из двери... Я и глаза закрыл.
Только слышу голос чей-то:
– Васька, Васька.
«Не Потап ли», думаю.
Открыл глаза, глядь... Отцы родные!.. Цыган. Стоит на пороге и Ваську гладит. Потом, гляжу, вытащил из кармана ржаной корж, разломил, подает ему.
– На, – говорит.
А лих был козел, когда приходилось касательно еды. Сейчас – марш в угол. Слышу уж чавкает.
Ну, значит, Васька стоит себе в углу, ест.
– Васька! – кричу ему, – Васька! рогами его, рогами его.
Какое тебе рогами! Чавкает.
По правде сказать, не его и вина. Скажем так: ежели ты плотник, то и плотничай, ежели ты коновал – лечи, а ежели ты приставлен на счет домового, – стереги домового. Ну, конечно, он видит, что не домовой, ему и дела до всего прочего мало.
Хорошо. Вот вошел цыган в конюшню, прямо ко мне. Подошел ко мне, гладит.
– Ах ты, Рыжий – говорит, – Рыжий.
Я, было, его зубами хватить хотел, а он, сейчас хлоп, снял со стены уздечку, надел на меня. Вывел потом на двор...
Ну, вы знаете, какие они цыгане на счет верховой езды? Живо, это, вскочил, подобрал повод...
Пошел я. Вышел за ворота, как хлестнет он меня. Поскакал я.
Скачу, а он знай себе нахлестывает да нахлестывает. Прямо, скажем, лупит вовсю. Проскакали выгон, проскакали мост, выбрались за околицу... Думал, было, хотя тут уймется, однако, куда тебе! Хлещет, так и знает – хлещет...
Долго мы так скакали и, наконец, братцы мои, прискакали мы в ихний табор. Вижу, огонь горит, кашу варят. А много их около костра, цыган-то: старые, молодые, цыганки, цыганята... Две собаки лежат, лошади ходят спутанные. Поднялись собаки, завиляли хвостами. Как сейчас помню, одна черная, другая рябая. Ну, привязал он меня позади шатра, где стояла телега, подошел к огню.
– Яшка, – говорит, – сейчас, как отдохнешь, сейчас садись и валяй к Федору.
Смекаете?
Федор этот был другой цыган. Слушайте дальше. Хорошо, только прошло там сколько времени, смотрю, подходит ко мне Яшка этот, племянник его, отвязал, влез на меня, повернул.
– Вперед!
А сам каблуком в бока, в бока. Я, было, думаю, нет шалишь, ну тебя к Богу и с твоим Федором вместе, уперся на одном месте – стою.
Как он вытянет меня кнутом... Что поделаешь? Вот вы и посудите: и не хочешь, а пойдешь; такая уж наша жизнь. Поехали мы.
Ну, сколько там ни ездили по буеракам, по оврагам... Господи, где только не были!
Приехали мы к этому Федору. Черный тоже такой, курчавый. Вылез из-под телеги (под телегой спал). Да.
– Откуда? – спрашивает.
– Барская, – говорит Яшка, – Ивана Петровича.
– А, – говорит, – слыхал. – Рыжий?
– Рыжий.
– Давно у вас?
– Только нынешнею ночью.
– Так...
Почесал у себя в затылке, бороду погладил.
– Что ж, – говорит, – с ним делать?
Сам говорит, а сам на меня смотрит.
– Перекрасить, – говорит Яшка.
– Гм... – говорит.
Зачесал опять свою голову.
– Перекрасить, говорю, нужно, – опять говорит Яшка.
А он опять:
– Гм.
Смотрит на меня, бороду гладит.
Потом говорит:
– Ну, перекрасить, так и перекрасить.
– В вороного, – говорит Яшка.
Кивнул он головой.
– Ладно, – говорит.
Помолчал, помолчал, глянул на Яшку.
– А там куда? – спрашивает, – на ярмарку?
– На ярмарку.
Он опять:
– Гм...
– Мы, – говорит Яшка, – тебе, дядя Федор, за это пятую часть... Продадим за шестьдесят рублей – значить тебе двенадцать, больше возьмем, и тебе больше перепадет. Небось, в накладе не останешься. Народ мы честный, сам знаешь, своего брата обижать не будем.
А он свое опять:
– Гм.
– Ну, – говорит Яшка, – четвертую тебе часть... Хочешь?
– Вот это, – говорит, – так. Слезай.
И что же вы думаете, перекрасили они меня! Был я рыжий, а стал вороной.
Сейчас это Федор вынес горшок с краской, вымыл меня сперва, потом взял кисть и давай мазать! Всего вымазал.
Потом говорит:
– Пускай просохнет.
Привязал меня к дереву, а сам стоит, смотрит. Доволен работой своей, окаянный. Стоить, смотрит, ухмыляется себе в черную бороду.
– Теперь, – говорит, – хоть сам барин увидит – не узнает.
А я стою, грустно мне стало. Думаю: «Не видать и то мне, должно быть, своего стойла. Придется теперь мыкаться. Куда-то еще судьба заведет.»
Даже, верите ли, заплакал.
На другой день повели меня на ярмарку. Хорошо. Взял Яшка билет, поставил на площади с другими лошадьми. Сам около стоит.
Шум это на ярмарке, крик, гам, песни. А мне не до того. Все об одном думаю.
«Пропал», думаю, «шабаш теперь совсем».
Другие это лошади, которые рядом были, о том, о сем переговариваются: да откуда, да как жилось, да кто хозяева, а я стою, молчу.
Против меня как раз телега стояла; тоже кто-то лошадей привел, и в телеге в задке сено лежало... Хорошее сено, как сейчас помню... Да куда тебе! Какая тут тебе еда на ум пойдет! Кажется, даже на белый свет не глядел бы. Такая горесть стала, что и рассказать не могу.
Смотрю, и вдруг, что вы себе думаете!.. по базару Потап ходит... Ходит и все приглядывается, все приглядывается... Как какая рыжая лошади так сейчас подойдет и глядит.
Увидал я его, радость меня взяла. Как заржу на всю площадь:
– Потап! эй, Потап!
Да разве он понимает? Даже прямо так скажу, человек он совсем темный, неученый. Однако, заиграло у меня сердце. И сам ведь знаю, что не понимает, а как заржу, заржу!..
– Потап! эй, Потап, вот он – я...
Копытом стал бить, рвусь с привязи. А Яшка меня кнутом, кнутом... Потом, взял, повод покороче привязал, чтобы не порвал как-нибудь. Ну, тут я его зубом прихватил-таки. Он меня за это сапогом.
Больно было. Присмирел я малость, а потом опять за свое:
– Потап! Потап!
Да как рванусь, порвал повод... Яшка, было, ко мне, а я его коленкой: спереди он подскочил. Упал он, а я через него, прямо между телег, между лошадей, уж и не разбираю. Только бы выбраться. Выскочил на чисто место, гляжу...
Где Потап? Увидал его шапку; шапку он носил такую с синим верхом, барин подарил... Ну, думаю, шалишь теперь, цыган...
Бросился прямо через площадь, перебежал площадь, пробрался между народом, подскочил к Потапу...
Подскочил и заржал:
– Потап, Потап, Потапушка!..
Смотрю, повернулся Потап ко мне.
– Чудно, – говорит. – Чья, – говорит, – лошадь? Чего ей от меня надо?
Смотрит кругом. А я все за ним, все за ним, так от него и не отхожу. Стал он меня оглядывать, стал оглядывать, под брюхо подлез, потом опять вылез, стал шею гладить.
Собрался кругом народ. Один и говорит:
– А ты вот сказывал, молодец, что лошадь у вас украли. Эта, что ли?
– Да нет, – говорить, – наша-то рыжая...
– А может ее перекрасили?
– Как так? – спрашивает Потап.
– А очень просто, – говорит тот. – Ты бы попробовал.
– А как?
– А вот мы сейчас...
Взял это чужой человек, поплевал на руку, давай меня по бокам тереть. Глядь, а рука-то черная.
– Смотри, – говорит.
Ну и что тут было... Собралось народу видимо-невидимо. Шумят, кричат, ругаются. Кто-то воды принес. Давай это меня мыть... Вода черная, грязная. Кричит это народ, а Потап прямо, можно сказать, ошалел, руками только разводит. Тут кто-то сказал, что видел, как меня цыган привел. Хватились, да поздно... Цыгана и след простыл.
– Да, братцы, – закончил Рыжий свое повествование, – уж как же я и рад был, когда домой вернулся.
– А не пора ли нам спать, а то завтра рано вставать надо, – прибавил он.
– И то пора, – отозвался Фельдфебель.
И Фис-де-л’Эр тоже сказал:
– Спокойной ночи, господа.
Скоро в конюшне воцарилась тишина. Только бодрствовал козел.
Он ходил от стойла к стойлу и думал:
«А вот, небось, без меня вы так спокойно не спали бы».
Кажется, Васька был твердо уверен в существовании домового.
Во всяком случае, он действовал, как искренно убежденный козел и добросовестно выполнял свою обязанность: сторожил покой вверенных его защите лошадей.
Он не желал даром есть хозяйский хлеб.